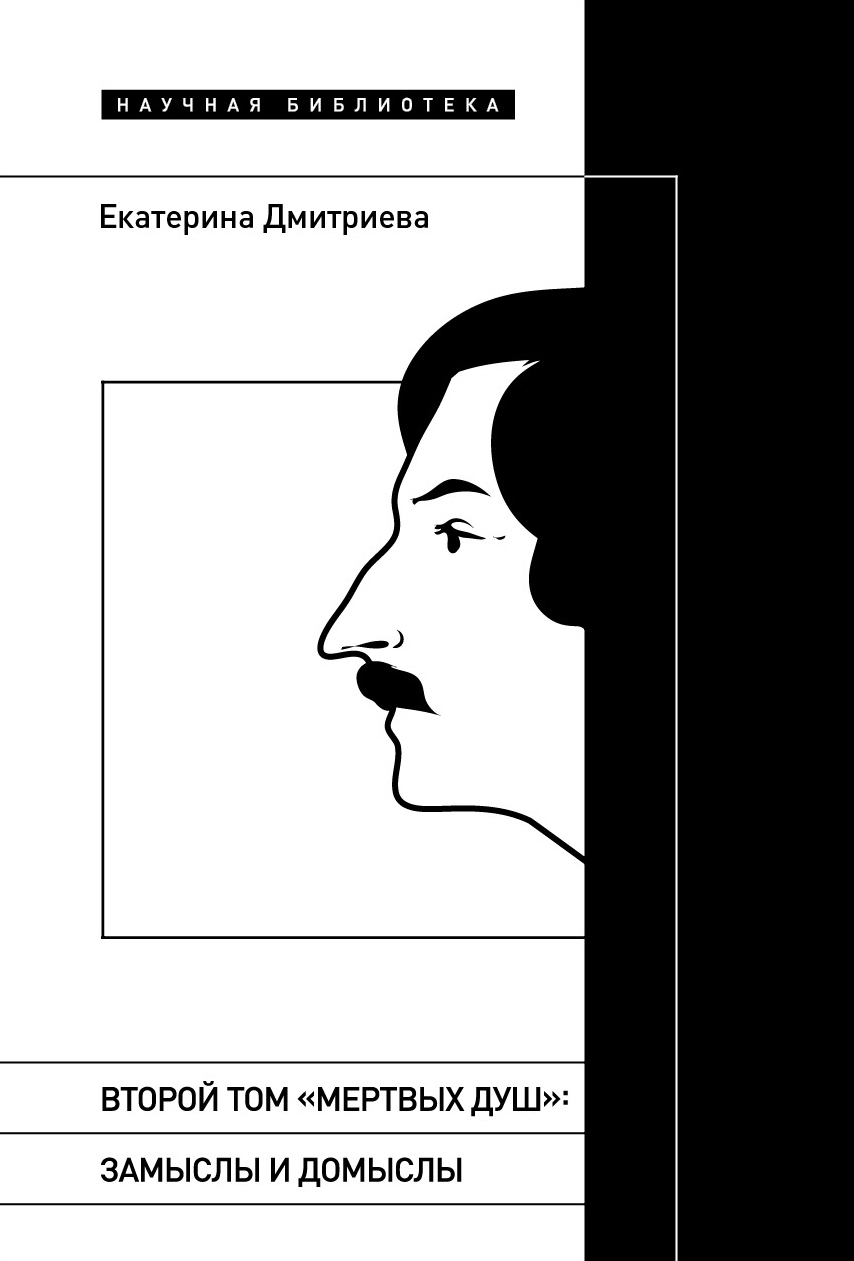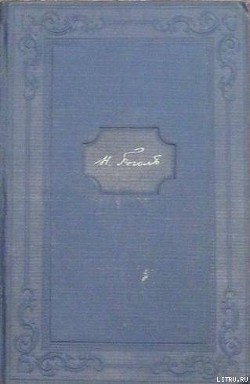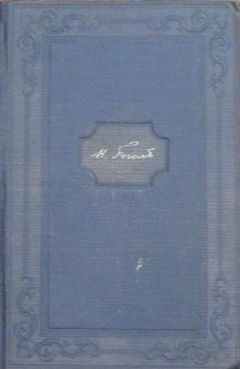письме, написанном, по всей видимости, на имя В. Д. Олсуфьева, отчетливо выступали причины, заставившие Гоголя просить не только о вспомоществовании, но и о беспошлинном паспорте и казенной подорожной, подобных тем, какие ему были выданы при поездке в Иерусалим. А также было подчеркнуто отличие второго тома поэмы от уже написанного первого:
Я долго колебался и размышлял, имею ли право осмелиться беспокоить Государя Наследника просьбою. Наконец подумал так: я занимаюсь сочинением, которое касается близкой сердцу его России. Если сочинение мое пробудит в русских любовь ко всему тому, что составляет ее святыню, и с тем вместе поселит в нем охоту к занятиям и трудам, более прочих свойственным нашей земле, то это с моей стороны есть уже тоже некоторый род службы, полезной отечеству. Сочинение мое «Мертвые души» долженствует обнять природу русского человека во всех ее силах. Из этого сочинения вышла в свет одна только часть, содержащая в себе осмеяние всего того, что несвойственно нашей великой природе, что ее унизило; вторая же часть, где русский человек является уже не пошлою своею стороной, но всей глубиной своей природы, со всем величием своего характера, не могла быть так скоро оконченной. Мне нужно было обдумать и созреть самому. Теперь часть дела уже сделана. Но я устал, утомился, и здоровье мое, которым было запасся в Италии, вновь ослабело, и, что всего хуже, суровость климата отнимает у моей головы способность работать в зимнее время; две зимы пропали здесь даром. Чувствую, что для оживления труда моего и окончания нужно большее сближение с Россией и временное отдаление от нее. Если бы в продолжение трех лет была у меня возможность совершать в летние месяцы путешествие по России, а на три зимние месяца удаляться невдали от нее или на острова Греции, или где-нибудь на Востоке затем, чтобы поработать в тишине, – сочиненье мое было бы кончено не к бесславью Русской земли. Ибо нет у меня другой мысли: этим живу, этим дышу, молюсь Богу только об этом (конец августа – сентябрь 1850 г., Васильевка).
А между тем жертвой возобновившихся в Петербурге и на Украине слухов о скором выходе второго тома «Мертвых душ» на этот раз оказалась матушка Гоголя, М. И. Гоголь, принявшая посланную им весной 1850 года [179] посылку с огородными семенами для сестер за только что вышедшую поэму (так когда-то С. Т. Аксаков принял книгу Фомы Кемпийского за посланную Гоголем рукопись [180]).
Возможности отправиться на средиземноморский юг Гоголь не получил. И вместо этого остался в Васильевке. О состоянии работы над поэмой в это время позволяют судить слова, сказанные им М. А. Максимовичу во время их совместной поездки в Васильевку летом 1850 года:
Беспрестанно поправляю и всякий раз, когда начну читать, то сквозь написанные строки читаю еще ненаписанные. Только вот с первой главы туман сошел [181].
Работа над завершением поэмы
И вновь друзья беспокоятся, как сложится судьба поэмы. Свои опасения после отъезда Гоголя из Москвы высказал С. Т. Аксаков:
Если Гоголь в эту зиму ничего не сделает, то я крепко буду бояться за окончание его великого подвига. Гоголь отправился в путь прямо из нашего дому, позавтракав на дорогу варениками и пр., что, без сомнения, доставило большое удовольствие матери. В последнее время я замечал в Гоголе необыкновенное ко мне чувство, или записки мои ему очень понравились, а также и замечания на его второй том, или болезненность моя его разжалобила (письмо И. С. Аксакову от 19 июня 1850 г., Абрамцево [182]).
Более оптимистичный взгляд на возможность завершения Гоголем работы при условии, если зиму он проведет в Греции, высказала в письме И. С. Аксакову от 28 июня 1850 года из Калуги А. О. Смирнова:
Сегодня я детям читала Тараса Бульбу вслух. Что за человечек этот Гоголь, что за оригинальный гений! Он проехал здесь с Максимовичем, здоровье его плохо; если Бог поможет ему получить пачпорт за границу, он, вероятно, поселится в Афинах или на Афоне и кончит там второй том [183].
Энтузиазма Смирновой, правда, не разделил Иван Аксаков в письме отцу от 9 июля 1850 года:
В Данилове я нашел себе письмо от А<лександры> О<сиповны>. Она пишет <…>, что Гоголь, вероятно, поселится на Афонской горе и там будет кончать «Мертвые души» (как ни подымайте высоко значение искусства, а все-таки это нелепость, по-моему: среди строгих подвигов аскетов он будет изображать ощущения Селифана в хороводе и грезы о белых и полных руках и проч.) [184].
На пути в Васильевку Гоголь получит дополнительные импульсы для работы над поэмой. Услышав 24 июня 1850 года в Севске плач дочерей по матери, он оказался настолько «поражен поэтичностью этого явления», что захотел «воспользоваться им при случае в „Мертвых душах“» [185]. Уже по отъезде из Оптиной пустыни Гоголь пишет письмо иноку Порфирию (в миру – Петр Григоров), благодаря за вспомоществование, которое, по его словам, послужит окончанию поэмы: «Ваша близкая к небесам пустыня и радушный прием ваш оставили в душе моей самое благодатное воспоминанье». «При сем» он прилагает деньги «10 р. серебром на молебствие о благополучном <…> путешествии <к святым местам> и о благополучном окончании сочинения <…> на истинную пользу другим и на спасенье собственной души» (письмо от 19 июля 1850 г., Васильевка [186]). Инок Порфирий в ответ напутствует:
Пишите, пишите и пишите для пользы соотечественников, для славы России, не уподобляйтесь оному ленивому рабу, скрывавшему свой талант, оставивши его без приобретения… (письмо от 29 июня 1850 г., Оптина пустынь) [187].
Еще одно «официальное» письмо, которое Гоголь отправил из Васильевки через своего племянника Н. П. Трушковского с просьбой для себя пенсиона, который бы позволил ему зимой пребывать в Греции, было адресовано «графу Л. А. Перовскому (м<инист>р вну<тренних> дел) или князю П. А. Ширинскому-Шихматову (м<инист>р просв<ещения>) или графу А. Ф. Орлову (III отд<еление>)». И вновь просьба мотивировалась Гоголем необходимостью продолжить работу над «Мертвыми душами»:
…суровость двух северных зим расстроила снова мое здоровье. Не столько жаль мне самого здоровья, сколько того, что время пропало даром. А между тем предмет труда моего не маловажен. В остальных частях «Мертвых душ», над которыми теперь сижу, выступает русский человек уже не мелочными чертами своего характера, не пошлостями и странностями, но всей глубиной своей