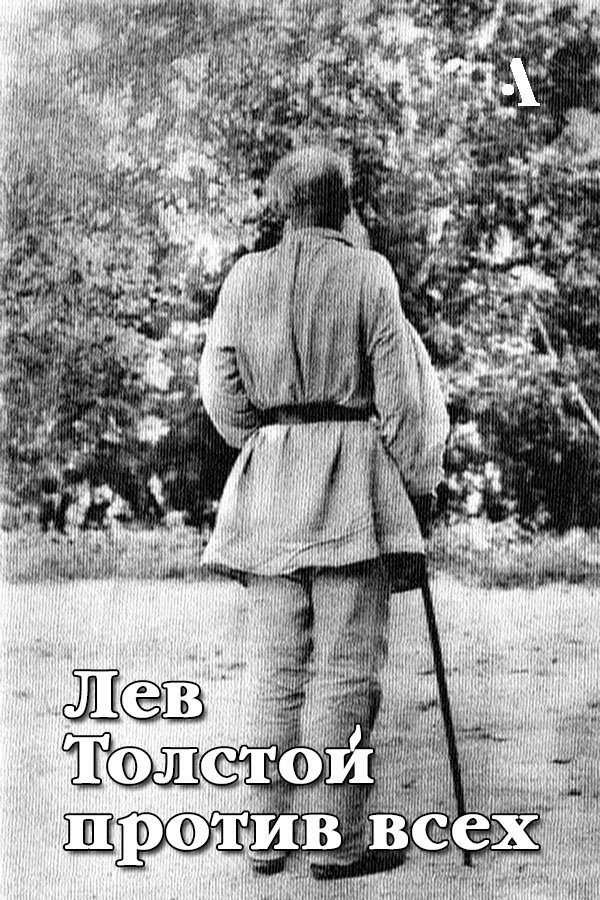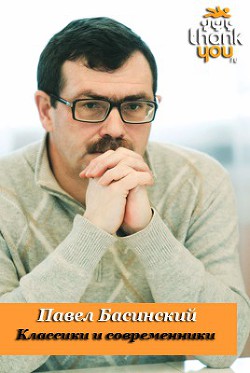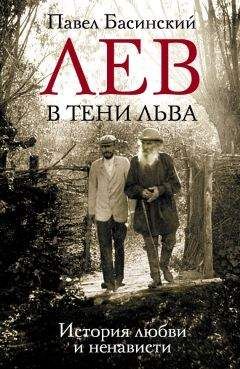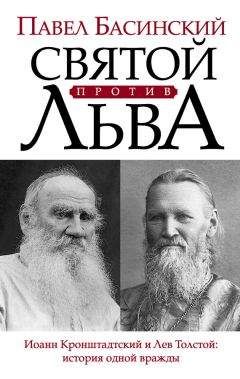и хлопотливо было смотреть за всеми детьми и останавливать их шалости, хотя и трудно было вспомнить и не перепутать все эти чулочки, панталончики, башмачки с разных ног и развязывать, расстегивать и завязывать тесемочки и пуговки, Дарья Александровна, сама для себя любившая всегда купанье, считавшая его полезным для детей, ничем так не наслаждалась, как этим купаньем со всеми детьми. Перебирать все эти пухленькие ножки, натягивая на них чулочки, брать в руки и окунать эти голенькие тельца и слышать то радостные, то испуганные визги; видеть эти задыхающиеся, с открытыми, испуганными и веселыми глазами лица, этих брызгающихся своих херувимчиков было для нее большое наслаждение.
Настоящий образ Долли раскрывается перед нами не там, где она выглядит жалкой и несчастной женщиной. Это всё мы видим глазами других людей, не понимающих, кто перед ними. В романе есть четыре важнейшие сцены с ее участием, где Долли вдруг воспаряет над всеми остальными героями. И все эти сцены, что не сразу понимаешь, прямо связаны с четырьмя главными церковными таинствами: Причастием, Крещением, Исповедью и Венчанием. Это – поход с детьми в церковь, купание в реке, разговор с Карениным и свадьба Кити. Здесь автор устраняет «посредников», и мы видим Долли такой, какой видит ее сам Толстой.
[о]: Долли стояла подле них, слышала их, но не отвечала. Она была растрогана. Слезы стояли у ней в глазах, и она не могла бы ничего сказать, не расплакавшись. Она радовалась на Кити и Левина; возвращаясь мыслью к своей свадьбе, она взглядывала на сияющего Степана Аркадьича, забывала все настоящее и помнила только свою первую невинную любовь. Она вспоминала не одну себя, но всех женщин, близких и знакомых ей; она вспомнила о них в то единственное торжественное для них время, когда они, так же как Кити, стояли под венцом с любовью, надеждой и страхом в сердце, отрекаясь от прошедшего и вступая в таинственное будущее. В числе этих всех невест, которые приходили ей на память, она вспомнила и свою милую Анну, подробности о предполагаемом разводе которой она недавно слышала. И она также, чистая, стояла в померанцевых цветах и вуале. А теперь что?
– Ужасно странно, – проговорила она.
И опять Толстой не показывает ее лица, но мы догадываемся, как оно прекрасно в этот момент венчания Кити и Левина. Это результат ее стараний. Это ее женское дело…
[о]: Еще как только Кити в слезах вышла из комнаты, Долли с своею материнскою, семейною привычкой тотчас же увидала, что тут предстоит женское дело, и приготовилась сделать его. Она сняла шляпку и, нравственно засучив рукава, приготовилась действовать.
На протяжении всего романа Долли живет и действует «нравственно засучив рукава», руководствуясь мудрой христианской заповедью: «Довлеет дневи злоба его». На каждый день своя забота. Что бы ни было, делай свое дело!
Последняя запись в дневнике Толстого, сделанная на станции Астапово 3 ноября 1910 года за несколько дней до смерти: «Вот и план мой. Fais ce que doit, adv… [11]»
Неслучайно единственный персонаж в романе, который понимает и ценит Долли, – это alter ego автора – Левин. В черновых набросках к роману это звучало открыто:
[ч]: С тех пор как он был женат, он в первый раз в жизни через очки своей жены увидал одну половину мира, женскую, такою, какая она есть в самом деле, а не такою, какою она кажется. И первое лицо во всей действительности, которое он увидал такой, была его belle soeur [12]. Он узнал ужасы неверности, пьянства, мотовства, грубости Степана Аркадьича, и Долли в ее настоящем свете из простой, доброй и какой-то забитой, незначительной женщины выросла в героиню, в прелестную женщину, в которой он узнавал те же дорогие ему в своей жене черты, и он испытывал к ней, кроме любви, набожное чувство уважения и всеми средствами старался ей быть полезным.
Но в окончательной редакции это признание Левина своей belle soeur в любви исчезло. Для умной, тонко чувствующей, но стеснительной Долли оно звучало бы слишком пафосно.
Глава шестая
Левин и Каренин
На первый взгляд, сравнивать Каренина и Левина не имеет никакого смысла. Эти два персонажа существуют отдельно друг от друга и живут словно в разных мирах.
Левин ничего не знает о Каренине до случайного знакомства с ним в поезде примерно в середине романа. Впрочем, если бы этого знакомства не было, их все равно представили бы друг другу на вечере у Облонских, куда Стива затащил Каренина в надежде, что Долли уладит его конфликт с Анной, как когда-то Анна спасла их семью от развода. На этом вечере Левин делает Кити второе предложение, и это, конечно, куда более важное событие, чем вторая и тоже случайная встреча с Карениным.
Любопытно, однако, что приезд Каренина к Облонским отчасти напоминает визит Левина к Щербацким в начале романа. Каренину здесь никто не рад. Он всем, кроме Стивы и Долли, у которых на него свои планы, в тягость. Как в свое время был в тягость и Левин, пришедший к Щербацким в неподходящий момент, когда даже Кити была не рада видеть своего старого друга и незадачливого жениха, наперед зная, что она ему откажет.
[о]: В половине восьмого, только что она сошла в гостиную, лакей доложил: «Константин Дмитрич Левин». Княгиня была еще в своей комнате, и князь не выходил. «Так и есть», – подумала Кити, и вся кровь прилила ей к сердцу. Она ужаснулась своей бледности, взглянув в зеркало.
Теперь она верно знала, что он затем и приехал раньше, чтобы застать ее одну и сделать предложение. И тут только в первый раз все дело представилось ей совсем с другой, новой стороны. Тут только она поняла, что вопрос касается не ее одной, – с кем она будет счастлива и кого она любит, – но что сию минуту она должна оскорбить человека, которого она любит. И оскорбить жестоко… За что? За то, что он, милый, любит ее, влюблен в нее. Но, делать нечего, так нужно, так должно.
С Карениным другая ситуация. Но в чем-то и сходная. Левину не рады, потому что он чужой для московского света. Его деревенская привычка говорить всем правду в лицо раздражает московский бомонд, особенно – графиню Нордстон. И еще он опасен для хозяйки вечера – старой княгини Щербацкой. Она боится, что ее дочь