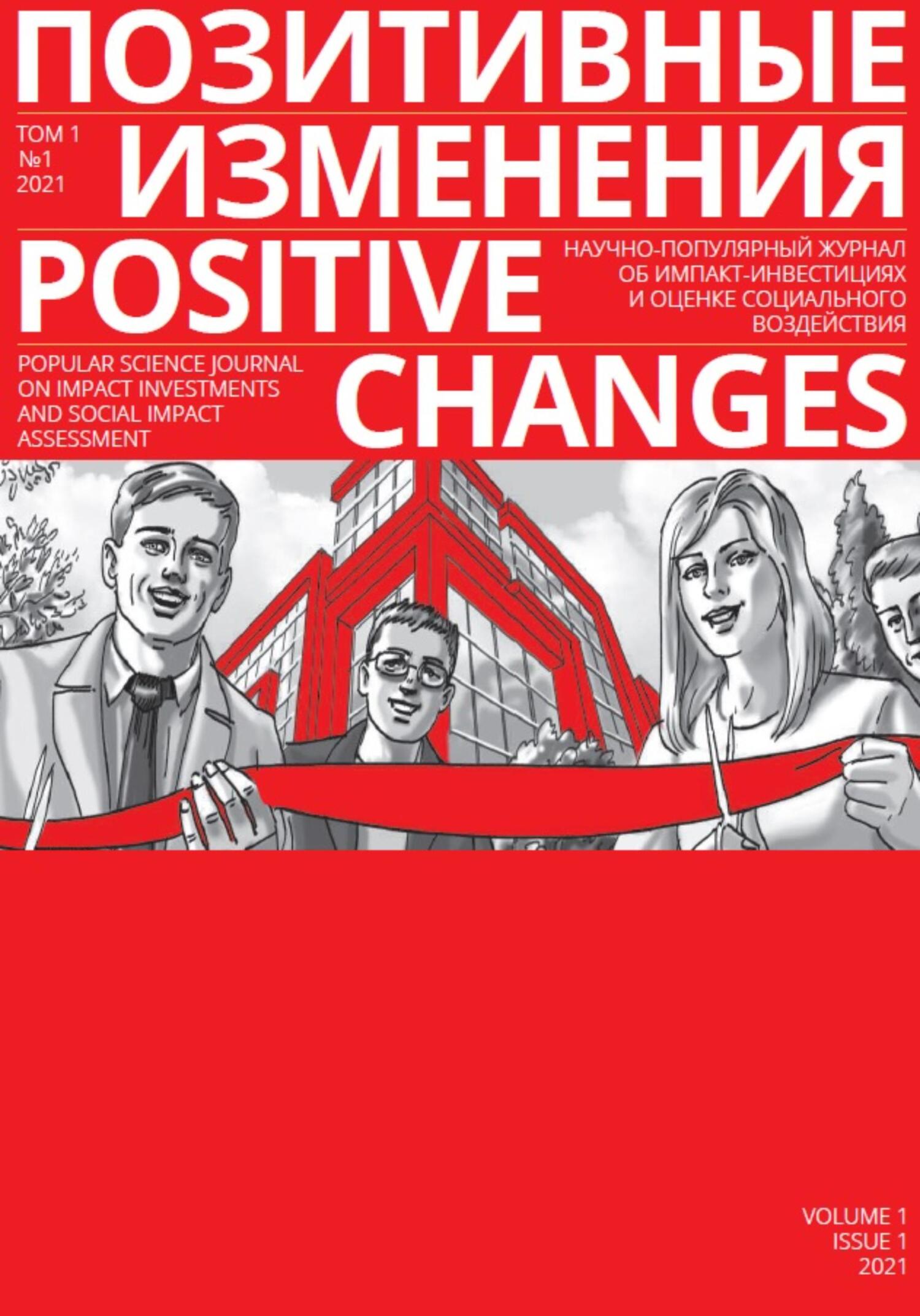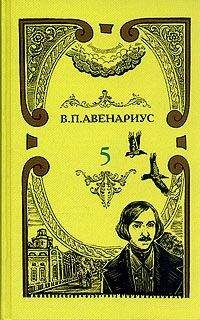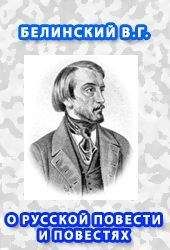социалистического реализма с его культом реалистического искусства, абсурдистские стихи и театральные представления обэриутов подверглись резкой критике. Возможно, неслучайно и Гоголь, и Хармс, и Шостакович жили в Петербурге – колыбели русского абсурда. Перефразируя известное, приписываемое Достоевскому изречение о том, что «вся русская литература вышла из гоголевской „Шинели“», можно сказать, что русская абсурдистская литература вышла из гоголевского «Носа». По этому поводу Д. И. Чижевский отмечает:
…нас, может быть, меньше удивит тот факт, что Гоголь может считаться и основателем гораздо более поздней традиции «заумного языка» русских «футуристов». Впрочем, не было такого направления русской литературы после Гоголя, которое – и притом с некоторым правом – не объявило бы его своим родоначальником! Но Гоголь был во всяком случае первым, кто не боялся языковой бессмыслицы, более того, кого она привлекала [Чижевский 2010: 120].
Рассказ Хармса «Иван Яковлевич Бобов проснулся…» (1934–1937), написанный в годы политических репрессий и массовых расстрелов, содержит многочисленные аллюзии к «Носу». Его главный герой – тезка гоголевского цирюльника, Ивана Яковлевича, а фамилия отсылает к заглавию повести Достоевского «Бобок» (в контексте повести это слово означает бессмыслицу). Текст Хармса начинается с того, что герой просыпается и видит на потолке «большое серое пятно с зеленоватыми краями»; это вызывает ассоциацию как с пробуждением майора Ковалева, так и с его слугой Иваном, который лежит на диване, плюет в потолок и попадает «довольно удачно в одно и то же место». Здесь же задается тема фрагментации лица: «Потом он вытаращил глаза и так высоко поднял брови, что лоб сложился, как гармошка, и чуть совсем не исчез, если бы Иван Яковлевич не сощурил глаза опять, и вдруг, будто устыдившись чего-то, натянул одеяло себе на голову» [Хармс 1988: 319].
Иван Яковлевич в рассказе Хармса унаследовал от своего тезки страсть к яркой, но вышедшей из моды одежде. Если в «Носе» цирюльник предпочитает носить фрак (что в 1830-е годы не подобало человеку его положения), то герой рассказа Хармса пытается найти новую пару полосатых брюк. Хармс строит повествование на многочисленных повторах и преувеличениях, что характерно и для гоголевской прозы:
А старые брюки Ивана Яковлевича износились уже настолько, что одеть их стало невозможно. Иван Яковлевич зашивал их несколько раз, но наконец и это перестало помогать. Иван Яковлевич обошел все магазины и, опять не найдя нигде полосатых брюк, решил наконец купить клетчатые. Но и клетчатых брюк нигде не оказалось. Тогда Иван Яковлевич решил купить себе серые брюки, но и серых нигде себе не нашел. Не нашлись нигде и черные брюки, годные на рост Ивана Яковлевича. Тогда Иван Яковлевич пошел покупать синие брюки, но, пока он искал черные, пропали всюду и синие и коричневые. И вот, наконец, Ивану Яковлевичу пришлось купить зеленые брюки с желтыми крапинками. В магазине Ивану Яковлевичу показалось, что брюки не очень уж яркого цвета и желтая крапинка вовсе не режет глаз. Но, придя домой, Иван Яковлевич обнаружил, что одна штанина и точно будто благородного оттенка, но зато другая просто бирюзовая, и желтая крапинка так и горит на ней [Хармс 1988: 320].
Полосатые и клетчатые брюки были в моде во времена нэпа в 1921–1924 годах, когда русские франты носили галстуки-бабочки, мягкие шляпы и канотье, пытаясь подражать американцам «ревущих двадцатых», периода джазовой музыки и экспрессивных танцев. В 1934–1937 годах, когда был написан рассказ «Иван Яковлевич Бобов проснулся…», подобный стиль в одежде ассоциировался с буржуазным упадком на Западе и считался идеологически и эстетически неприемлемым для молодого советского государства. Носить такую одежду в период сталинских репрессий мог только человек, который не боялся привлечь к себе внимание сотрудников государственной безопасности. Здравый смысл подсказывал, что выделяться из толпы, отличаться от других, причудливо и оригинально одеваться было равносильно открытому проявлению антисоветских взглядов.
В отличие от большинства законопослушных и осторожных советских граждан, Хармс предпочитал экстравагантный стиль в одежде. Он носил гамаши и бриджи, модные в начале 1920-х годов в США и Великобритании. Исследователи так описывают его манеру одеваться: «Хармс носил причудливые головные уборы (шляпу или кепку), шорты из шотландки, высокие гольфы, цепочку с бряцающими брелоками, среди которых один был с черепом и костями, и курил трубки фантастического вида» [Панова 2017: 38]; «Он ходил в коротких штанах с пуговичками пониже колен, в серых шерстяных чулках, в черных ботинках. В клетчатом пиджаке. Шею подпирал белоснежный твердый воротничок с детским шелковым бантом. Голову молодого человека украшала пилотка с „ослиными ушами" из материи» [Минц 2001: 279]. Столь же экстравагантно выглядит нос, гуляющий по петербургским улицам: «Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника» (55). Хармс высоко ценил прозу Гоголя и его абсурдистский стиль. Гоголь значился первым в списке любимых писателей Хармса, который тот составил в записной книжке 14 ноября 1937 года.
Подобно Гоголю, Хармс интересовался святоотеческими писаниями [36].
Двух Иванов Яковлевичей, один из которых живет в Петербурге 1830-х годов, а другой – в Ленинграде 1930-х годов, объединяет и страх попасться кому-нибудь на глаза. Гоголевский Иван Яковлевич боится оказаться в полиции из-за того, что у него в кармане обнаружат чужой нос. Хармсовский Иван Яковлевич, надевший наконец новые брюки, боится, что его увидят другие люди: «Первый раз в новых брюках Иван Яковлевич вышел очень осторожно. Выйдя из подъезда, он посмотрел раньше в обе стороны и, убедившись, что никого поблизости нет, вышел на улицу и быстро зашагал по направлению к своей службе» [Хармс 1988:321].
Кроме того, прослеживается отчетливая параллель между внезапным и необъяснимым исчезновением носа с человеческого лица у Гоголя и столь же внезапным и необъяснимым исчезновением людей с лица земли в произведениях Хармса. Слово «исчезнуть» стало ключевым в конце 1930-х годов, когда люди исчезали после того, как их неожиданно, без предупреждения арестовывали посреди ночи. Стихотворение Хармса «Из дома вышел человек» (1937) – о человеке, который, выйдя из дома, отправился в путь и внезапно исчез в темном лесу, – часто называют пророческим. По расхожему мнению, в этом стихотворении Хармс предсказал собственную судьбу – свой арест в 1941 году, когда он перешагнул порог своей квартиры и больше не вернулся домой. Однако исследователи творчества Хармса считают такое прочтение слишком буквальным. В предисловии к своему переводу избранных произведений Хармса на английский Матвей Янкелевич напоминает, что абсурд художественного мира Хармса не следует сводить исключительно к