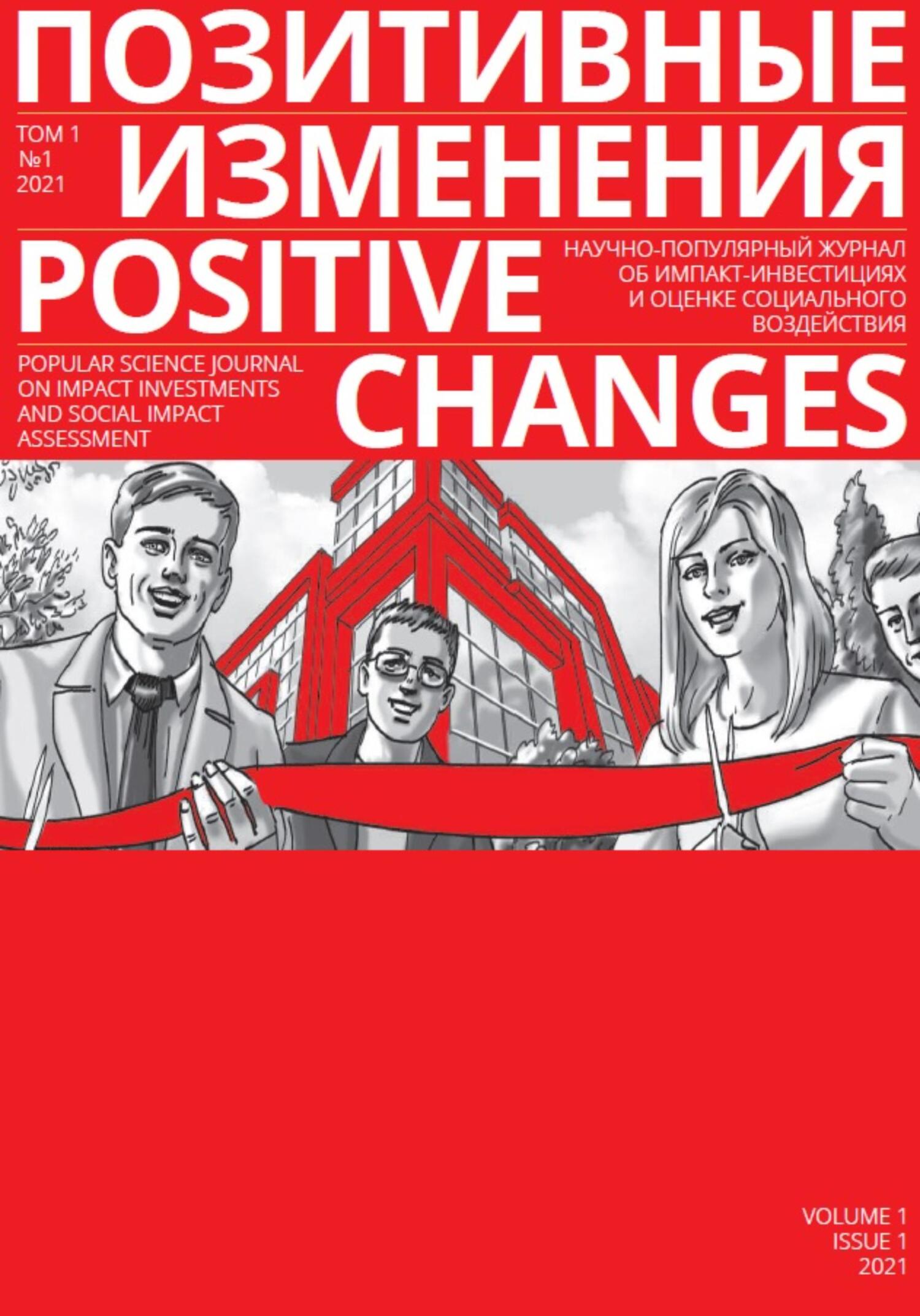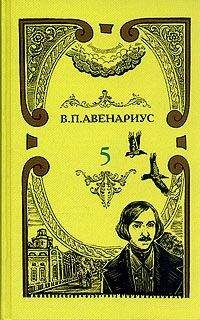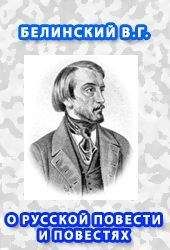уровнях, не только на уровне сюжета. Реакции персонажей на происходящие события также противоречат здравому смыслу. Так, например, когда цирюльник обнаруживает в хлебе нос, он не удивляется, а приходит в ужас, тогда как его супруга крайне возмущена. Доктор дает Ковалеву бессмысленный совет положить нос «в банку со спиртом или еще лучше влить туда две столовые ложки острой водки и подогретого уксуса» (69).
Самого Ковалева удручает не столько пропажа носа, сколько необъяснимость этой пропажи. Выводы, к которым он приходит, довольно странны – чего стоит, например, его высказывание, что лучше было бы потерять нос на войне или на дуэли. Лишено логической основы и сетование Ковалева: «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..» (54); столь же нелепо и его намерение жениться, когда ему исполнится «ровно сорок два года» (65).
Предвидя, что читатель сочтет повесть абсурдной, в начале третьей главы рассказчик восклицает: «Чепуха совершенная делается на свете» (73). По наблюдению Саймона Карлинского, «Повествование в „Носе“, этом самом нелогичном произведении русской литературы за все время ее существования, ведется неизменно будничным тоном, с невозмутимой серьезностью» [Karlinsky 1976: 129]. Благодаря серьезному тону рассказчика усиливается комический эффект от сообщаемых читателю бессмысленных сведений.
Некоторые исследователи рассматривают отсутствие причинно-следственных связей в «Носе» как характерную особенность этой повести. Так, Дональд Фангер указывает на наличие в самом тексте ряда мотивировок излагаемых событий, но при этом отмечает:
Большинство этих объяснений правдоподобно и в известной мере обосновано, однако каждое из них оказывается неубедительным, поскольку слишком многое в тексте в него не укладывается. Гоголь создает головоломку, к которой можно подбирать разные ключи, но ни один из них не подойдет. Ловушка для излишне доверчивых, эта повесть до сих пор представляет собой оригинальнейшее рассмотрение вопроса, что значит быть писателем [Fanger 1979:120].
Схожего мнения придерживается Энн Шукман: «В тексте нет единого, удовлетворительного фокуса мотивировки ни на уровне диегезиса, ни на уровне нарратива, на что справедливо указывал Ю. В. Манн» [Shukman 1989: 75]. Продолжая ту же линию аргументации, Гэри Сол Морсон подробно рассматривает отсутствие в «Носе» причинно-следственных связей, делая акцент на том, что события повести не только невероятны, но также ничем не обусловлены, не мотивированы и не объяснимы:
Остановимся на ряде вопросов, ответить на которые позволило бы рациональное объяснение сюжета повести. Как майор Ковалев потерял свой нос? Если цирюльник отрезал нос, когда брил Ковалева в среду, почему в четверг нос еще был на своем обычном месте, из-за чего и недоумевает Ковалев? Даже если неизвестно, отрезал цирюльник нос или нет, как он оказался в хлебе у цирюльника? Почему не осталось шрама; почему лицо Ковалева «плоское, как блин»? Как нос вырос до размеров человека и, что еще менее понятно, как он стал человеком? Даже если он стал человеком в биологическом смысле, как он стал человеком в смысле социальном? Как нос стал конкретной личностью со своей историей, как он получил чин и обзавелся кругом знакомств, и что произошло с памятью других людей, полагающих, будто они его знают? Способно ли это загадочное событие каким-либо образом изменить прошлое? Как нос снова становится носом и после этого возвращается на подобающее ему место на лице Ковалева? [Morson 1992: 228]
В российском литературоведении дискуссию о причинно-следственных связях в литературном произведении открыла Л. Я. Гинзбург в книге «О психологической прозе» (1971) – своей главной работе, посвященной теории реализма. Гинзбург утверждает, что причинная обусловленность составляет основную характеристику психологического романа XIX века, в соответствии с которой психологический и исторический процессы коренятся в прошлом и связаны с будущим [Гинзбург 1977: 253]. Исследовательница отмечает, что этот тип связи впервые сложился на раннем этапе реализма, в романе Стендаля «Красное и черное» («Le rouge et le noir», 1830), в котором существование отдельной личности обусловлено эпохой и социальной средой. В дальнейшем, по мысли Гинзбург, социальная обусловленность становится все более и более значимой и постепенно оформляется в зрелом творчестве Бальзака. В основе теоретических построений Гинзбург лежат ее изыскания о характерном для творчества Л. Н. Толстого психологическом анализе развития персонажа в результате «бесконечно дробных воздействий, управляющих его поведением» [Там же: 314–315]. Обусловленность у Толстого включает в себя различные типы влияний – не только основные исторические и социальные воздействия, но также импульсы, управляющие поведением человека и идущие как из внутреннего строя личности, так и из материальной среды. Гинзбург утверждает, что, «в отличие от творчества Достоевского, творчество Толстого лежит в русле объясняющего и обусловливающего психологизма XIX века. <…> То, что в дотолстовском реализме было тенденцией, у Толстого стало осознанным принципом, другой ипостасью его текучести. Текучесть предполагает процесс, обусловленное чередование психических состояний» [Там же: 319].
Тему обусловленности в художественной прозе продолжает Морсон; в книге «Повествование и свобода» (1994) он сосредоточивается на своеобразии произведений Достоевского. Исследователь подробно рассматривает понятие «времени, созерцаемого со стороны» (sideshadowing) как принципа, лежащего в основе повествовательной структуры романов Достоевского. В отличие от «времени, устремленного в будущее» (foreshadowing), при котором итог известен заранее и тем самым предопределен, «время, созерцаемое со стороны» предполагает «открытость» происходящих событий и, следовательно, не противоречит идее о человеческой свободе и выборе из множества возможностей [Morson 1994: 117–172, 234–264].
Рассматривая причинную обусловленность у Гоголя, Морсон отмечает, что в некоторых произведениях писателя бессмыслица подчиняется законам логики. Так, например, переписка, которую ведут собаки в «Записках сумасшедшего», может объясняться нездоровым воображением главного героя. Однако в «Носе» дело обстоит иным образом; здесь «построения всевозможных объяснений сталкиваются с совершенно необъяснимыми событиями. Эти события попросту не имеют никакого смысла» [Morson 1992: 227]. Раздел статьи Морсона, посвященный «Носу», носит заглавие «Чистая аномалия и абсолютная бессмыслица».
Отсутствие причинно-следственных связей в «Носе» отличает повесть как от психологического метода Толстого, так и от метода Достоевского, хотя к Достоевскому она все-таки ближе. Как отметил Ю. Н. Тынянов в 1921 году, творчество Гоголя, в том числе «Нос», оказало на Достоевского огромное воздействие. Отсылки на эту повесть содержатся в рассказе Достоевского «Господин Прохарчин» (1846). В «Двойнике» (1846) Достоевский пользуется гоголевским приемом создания маски и двойника маски [Тынянов 1921: 6–7].
Тем не менее в целом «Нос» стоит ближе к авангардистскому искусству 1920-х годов, нежели к русской прозе XIX века. Музыкальное воплощение повести – опера «Нос» (1928) Д. Д. Шостаковича – будет рассмотрено в следующей главе. В литературном же отношении «Нос» оказал непосредственное влияние на ОБЭРИУ – группу поэтов-авангардистов, основанную в 1928 году Д. Хармсом и А. Введенским. В 1930-е годы, когда восторжествовала доктрина