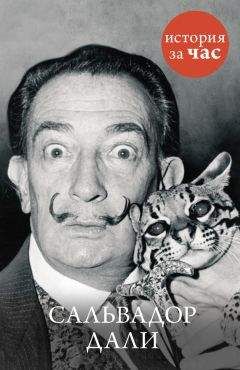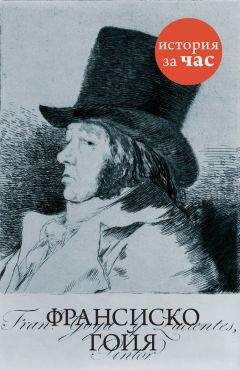в глубоком, катастрофическом кризисе, с другой – европейская культура породила высокие эстетические или жизненные, но эстетизированные (напр., культ вина, вообще любого хмельного напитка, опьянения) ценности. Между этими полюсами существует символист, преклоняющийся перед прекрасным, высоко несущий достоинство художника, и одновременно готовый ринуться во все безобразия жизни, во все ее стремительные и опасные водовороты.
В России о символизме первым заговорил Мережковский, назвавший свою вторую книгу стихов «Символы (Песни и поэмы)» (1892). В книге «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893) он говорил об окончании эпохи «удушающего мертвенного позитивизма», который заменяется «художественным идеализмом». Подлинное искусство, по Мережковскому, включает в себя 1) мистическое содержание, 2) символы, выражающие «безграничную сторону мысли», и 3) способность производить художественное впечатление, т. е. импрессионистичность: это «жадность к неиспытанному, погоня за неуловимыми оттенками, за темным и бессознательным нашей чувствительности».
Одновременно в журнале «Вестник Европы» (№ 9 за 1892 г.) появилась статья З. А. Венгеровой «Поэты-символисты во Франции: Верлэн, Маллармэ, Римбо, Лафорг, Мореас». Публикация послужила стимулом интереса к новой литературе молодого русского поэта Брюсова. В результате появились выпущенные им сборники «Русские символисты» и вообще возникло явление как таковое.
В начальных установках символизма, воспринятых русской поэзией, крылись причины его раскола.
В 1910 г. наступил конец эпохи символизма. Невозможно, однако, говорить о его «смерти», как делали это современники и некоторые потомки. Символическая природа кроется в самом стремлении искусства создавать знаки, передавать некоторый смысл, преображая внешние оболочки, транслировать внутреннее через внешнее, говорить иносказательно – словом, символизировать. Как бы ни стремились ближайшие наследники символизма откреститься от его «учительной» роли, их творчество само наполнено символами: таковы произведения акмеистов или футуристов.
– высшая ступень образности.
Художественная структура символа выстроена вертикально, чтобы объединить явления несовершенного, реального, земного мира с явлениями идеальными, в культурном отношении «небесными».
Встречаются символы как общекультурного, так и индивидуально-авторского характера. В европейской культуре основные символы имеют христианское происхождение. Например, символы Богоматери – лилия (цветок, принесенный архангелом при Благой Вести) и роза (после Рождества Христова). Ветвь оливы и голубь – символы мира. Порфира – символ власти монарха (его истоки в язычестве). Символы бывают и национальные, как хлеб-соль у славян – гостеприимство.
Слово имеет греческое происхождение: simbolon – знак, примета; symbalo – соединяю, составляю, сращиваю. В символе соединяется физическая картина и ее запредельный, метафизический смысл, который вдруг, внезапно начинает «просвечивать» сквозь обыденно-реальное, придавая ему черты иного, идеального бытия. Другими словами, символ есть знак или предмет, который замещает некоторый другой предмет, выражая его скрытую сущность и одновременно являясь проводником системы идей или представлений о мире, свойственных тому, кто применяет этот символ; условное выражение сущности какого-либо явления посредством внешнего вида, формы другого предмета или даже его внутренних качеств, в таком случае также становящихся «формой», овнешняющихся. Утрачивая самостоятельную сущность, предмет-символ или слово-символ начинает «представлять собой» нечто совсем другое. Так, «сладострастие» для Брюсова – символ общения в самом высоком смысле этого слова, слияния, взаимопроникновения двух людей до полного растворения друг в друге. Символами могут служить предметы, животные, известные явления, например природные («Гроза» Островского), признаки предметов, действия и др.
В художественной литературе символ бывает общим для двух и более авторов (у К. Д. Бальмонта и И. А. Бродского речь поэта – символ его личности в целом). Тогда он становится универсальной культурной единицей. Так, символ связи жизни и смерти – путешествие в подземный мир и возвращение из него. Как мотив оно появляется в мифе, фольклоре, в Ветхом Завете (Книга Иова) и дальше – в авторских произведениях Вергилия, Данте Алигьери, Дж. Джойса, Брюсова и других поэтов-символистов, Мандельштама… Помимо вертикальной связи двух полярных миров этот символ означает инициацию души благодаря получению сложного духовного опыта, ее погружение во тьму и дальнейшее очищение, пробуждение.
Внутри основного символа поэты разрабатывают свою частную символическую систему. Такова, например, «ласточка» в поэзии Мандельштама, связанная с путешествием в загробный мир и с поиском оживленного поэтического слова. Приведу ряд контекстов употребления этого слова без пояснений. «Что зубами мыши точат // Жизни тоненькое дно // – Это ласточка и дочка // Отвязала мой челнок… <…> Потому что смерть невинна, // И ничем нельзя помочь…» («Что поют часы-кузнечик…»). «В ком сердце есть – тот должен слышать, время, // Как твой корабль ко дну идет. // Мы в легионы боевые // Связали ласточек – и вот // Не видно солнца; вся стихия // Щебечет, движется, живет; // Сквозь сети – сумерки густые – // Не видно солнца, и земля плывет» («Сумерки свободы»). «Я слово позабыл, что я хотел сказать. // Слепая ласточка в чертог теней вернется, // На крыльях срезанных, с прозрачными играть, // В беспамятстве ночная песнь поется» («Ласточка»). «Когда Психея-жизнь спускается к теням // В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной, // Слепая ласточка бросается к ногам // С стигийской нежностью и веткою зеленой» («Когда Психея-жизнь спускается к теням…»).
Новые оттенки смысла символа транслируются от одного поэтического поколения к другому. В этом смысле интересна группа символов, связанных с миром насекомых и с понятием «летающее насекомое». Так, у Виктора Александровича Сосноры читаем: «О! В этих элегиях много чужих жуков, // взятых за крылышки и у меня поющих, // пришлых имен, персоналий, чисел, планет, // долго ж они просились включения в мой гербарий. // Мог бы и вычеркнуть, вообще-то и не до них, // скипетр имперский не так уж приветлив с жуками, // но милосерд к голосам и малых сих, // пусть, на булавку наколотые, тут обитают» («О! В этих элегиях много чужих жуков…»). Здесь жуки – символ чужого текста, вообще литературы как совокупности образов и смыслов; всех «малых сих» в мире; смерти («на булавку наколотые») и посмертного бытия в культуре («тут обитают», т. е. в гербарии), загробного существования, опять-таки путешествия в царство теней и условного возвращения оттуда.
Какие же «чужие тексты» влияют на создание жуков как символа у Сосноры? Во-первых, в высокой степени выражено сравнение насекомого (кузнечика) с человеком в стихотворении Ломоносова: «Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, // Коль больше пред людьми ты счастьем одарен! // Препровождаешь жизнь меж мягкою травою // И наслаждаешься медвяною осою. // Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, // Но в самой истине ты перед нами царь; // Ты ангел во плоти иль, лучше, ты бесплотен, // Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен; Что видишь, все твое; везде в своем дому, // Не просишь ни о чем, не должен никому».
В поэзии Константина Константиновича Случевского при упоминании насекомых видим 1) связь мотивов жизни и смерти и 2) тождество «насекомое (жук) – человек»: