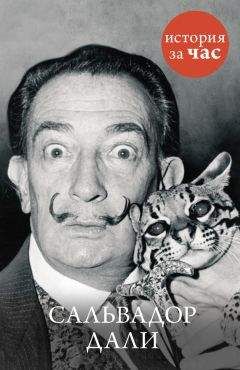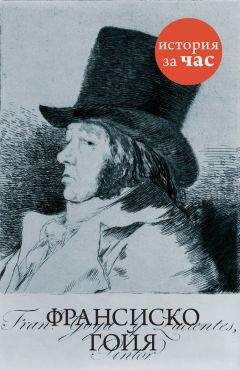«Я лежал себе на гробовой плите, // Я смотрел, как мчались тучи в высоте, // Как румяный день на небе догорал, // Как на небо бледный месяц выплывал, // Как летали, лбами стукаясь, жуки, // Как на травы выползали светляки» («На кладбище»). Символизация здесь идет по линии «жук – жизнь». Та же ситуация – в стихотворении Н. А. Заболоцкого «Отдыхающие крестьяне»: «Тогда крестьяне, созерцая // Природы стройные холмы, // Сидят, задумчиво мерцая // Глазами страшной старины. // Иной жуков наловит в шапку, // Глядит, внимателен и тих, // Какие есть у тварей лапки, // Какие крылышки у них». А в стихотворении того же Заболоцкого «Прощание с друзьями» жук уже прямо символизирует человека: «Там на ином, невнятном языке // Поет синклит беззвучных насекомых, // Там с маленьким фонариком в руке // Жук-человек приветствует знакомых».
Символы подземного (загробного) существования, возвращения/невозвращения из небытия связаны, как мы видим, с символикой насекомых/людей. В поэзии Мандельштама наблюдаем эту же перекличку. С одной стороны: «Да, я лежу в земле, губами шевеля, // И то, что я скажу, заучит каждый школьник: // На Красной площади всего круглей земля // И скат ее твердеет добровольный» («Да, я лежу в земле, губами шевеля…»). Никаких «жуков» здесь нет, однако появляется языковой (звуковой) образ «жужжания»: леЖУ, в ЗЕмле, ШЕвеля, скаЖУ, ЗАучит. Подобные вещи возникают в творчестве бессознательно, не моделируются автором, однако свидетельствуют об очень определенной внутренней логике самого творчества, верифицируя любую теоретическую идею писателя, и об онтологическом статусе языковых поэтических явлений. С другой стороны, возникает более непосредственная ассоциация: «Не мучнистой бабочкою белой // В землю я заемный прах верну…» («Не мучнистой бабочкою белой…»). Бабочка-«мусульманка» у Мандельштама тоже – «жизняночка и умиранка» («О бабочка, о мусульманка…»).
Поскольку символизация в поэзии во многом зависит от уже сложившегося обычая разрабатывать, углублять значение существующих в культуре символов, постольку «кузнечик» Ломоносова и «жуки» Случевского порождают множество символов, имеющих двойную природу: в них столько же от непосредственного восприятия автором мира реалий, сколько и культурной рефлексии (быть плодом такой рефлексии – органическое свойство символа). Так, у Арсения Александровича Тарковского читаем: «Над хрупкой чешуей светло-студеных вод // Сторукий бог ручьев свои рога склоняет, // И только стрекоза, как первый самолет, // О новых временах напоминает» («Когда купальщица с зеленою косой…»). Или: «Я ловил соответствия звука и цвета, // И когда запевала свой гимн стрекоза, // Меж зеленых ладов проходя, как комета, // Я-то знал, что любая росинка – слеза» («Я учился траве, раскрывая тетрадь…»). Здесь пространство символа превращается в пространство мифологическое. В стихах Бродского «насекомое» впрямую не названо, но – как «малое сие» – подразумевается, связываясь с еще одним распространеннейшим символом – зеркалом: «…Но, устремляясь ввысь, // звук скидывает балласт: // сколько в зеркало ни смотрись, // оно эха не даст. <…> В будущем, суть в амальгаме, суть // в отраженном вчера // в столбике будет падать ртуть, // летом – жужжать пчела. // Там будут площади с эхом, в сто // превосходящем раз // звук. Что только повторит то, // что обнаружит глаз. // Мы не умрем, когда час придет! // Но посредством ногтя / с амальгамы нас соскребет // какое-нибудь дитя!» («Полдень в комнате»).
Так символы у различных поэтов складываются в единую систему, в которой каждое звено связано с другими, всякий раз повторяя художественную логику, отличную от обыденной. Символу посвящено множество интереснейших работ ученых: достаточно упомянуть, например, книгу А. Ф. Лосева «Проблема символа и реалистическое искусство» и В. Н. Топорова «Миф. Ритуал. Символ. Образ».
– способ иносказания, при котором буквальный смысл художественного явления передается через характеристики другого объекта (аллегория царской власти – лев).
Аллегорию часто путают с символом. Чтобы этого не происходило, надо запомнить, что у аллегории горизонтальная структура: оба явления – и то, что означает, и то, что означается, – принадлежат одному и тому же земному миру. Но при этом не называются конкретные объекты, а упоминаются отвлеченные или родовые понятия. В приведенном примере – вообще царская власть в Европе или на Востоке и вообще лев, типичный представитель своего рода. Лев – царь зверей во многих культурах; его свойства передаются в мир людей.
Первым, кто четко разграничил аллегорию и символ, был И. В. Гете. Он противопоставил бесконечное (в символе) и конечное (в аллегории): структура образа при символизации расширяется в мир идеального, а в аллегории ограничивается рамками отвлеченного или родового именования: «Аллегория превращает явление в понятие, понятие в образ, но так, что понятие в образе остается ограниченным <…>, и его можно полностью удерживать, иметь и посредством этого образа выражать. Символика превращает явление в идею, идею в образ, и так, что идея всегда остается в образе бесконечно действенной и недостижимой».
– одно из двух литературных течений, возникших в русской литературе в 1910‐е гг. как реакция на символизм. Специфически русское и исключительно литературное явление. Самое известное определение акмеизма принадлежит Мандельштаму: «тоска по мировой культуре». Название течения произошло от греческого akmē – высшая степень чего-либо, цветущая сила.
Идеолог течения, Гумилев, был учеником и до поры до времени последователем Брюсова, но позже перерос влияние учителя и создал свою школу, в которую входили, помимо него и Мандельштама, еще Ахматова, Сергей Митрофанович Городецкий, Михаил Леонидович Лозинский. В состав группы в разных мемуарных и научных источниках иногда добавляется Владимир Иванович Нарбут.
Высшей ценностью искусства акмеисты полагали не взаимосвязанность явлений, а чувственно воспринимаемый мир, и поэтому в их текстах много слов, обозначающих способы чувственного восприятия. Объединившись в группу «Цех поэтов» и печатно выступая в журнале «Аполлон», они возражали против ухода поэзии в «миры иные», в «непознаваемое», против многосмысленных и текучих поэтических образов. Они предпочитали надмирным смыслам реальную земную жизнь. Вместо анализа или оценки социальных конфликтов они до поры до времени любовались мелочами – вещами, предметным миром, образами прошлой культуры и истории (Мандельштам, книга «Камень»).
Ранней поэзии Гумилева присуща апология «сильной личности» и «первобытных» чувств, воплотившаяся в образах «сильных мужчин» – конквистадоров, капитанов, воинов и героев античных мифов. Но эти образы свойственны не только ему одному: мужественность «мужей» (слово из высокого лексического пласта) воспета и Мандельштамом, и Нарбутом.
«Тоска по мировой культуре» выразилась в обращении акмеизма к образам искусства других народов, прежде всего европейских. Так получилось, что наиболее последовательно эстетику этого течения соблюдали не только в юношеском, но и в зрелом творчестве Ахматова и Мандельштам. Конкретные примеры их творчества будут рассмотрены в ст. Интертекстуальность.