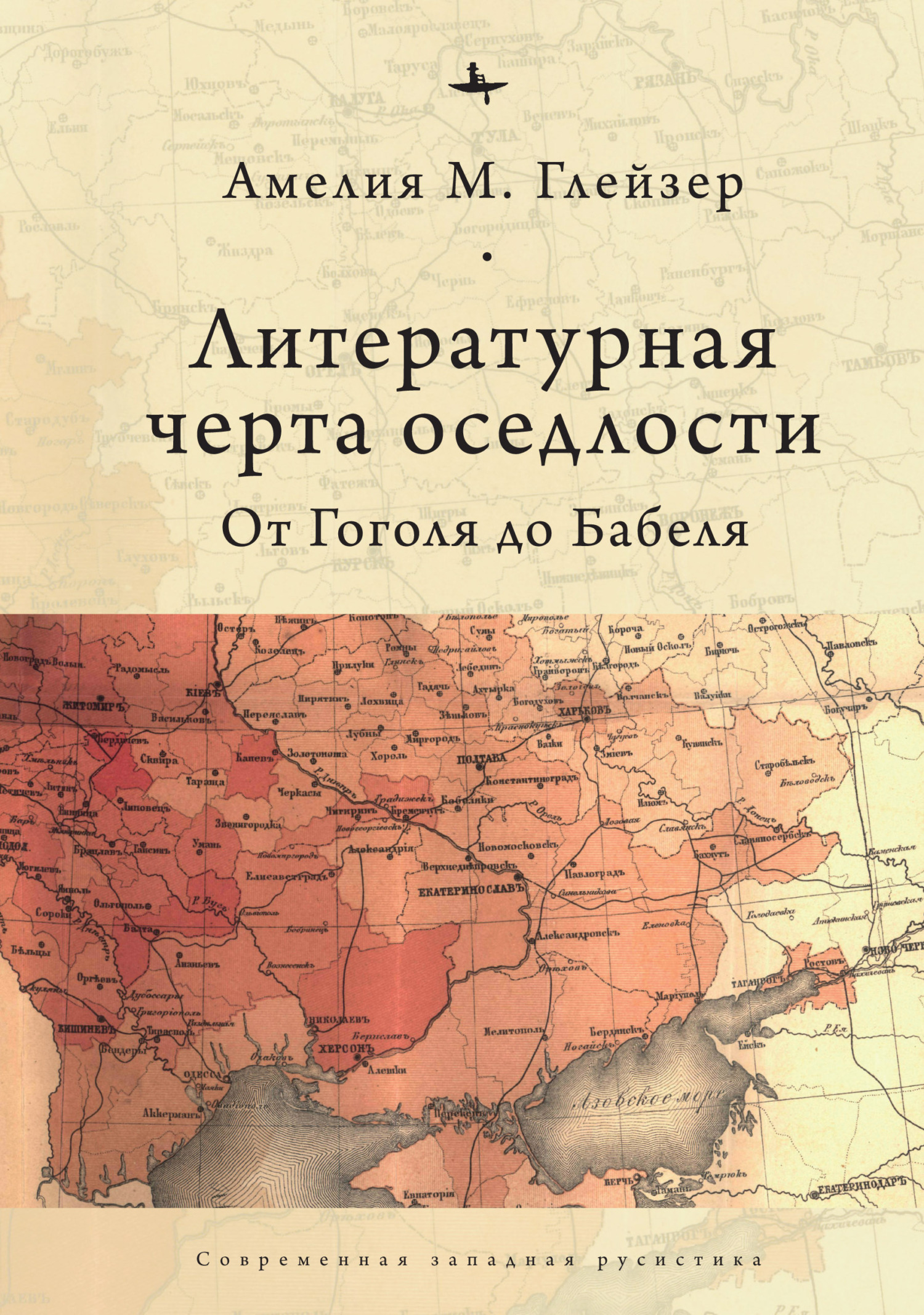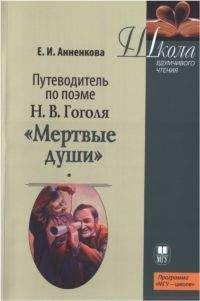необходимым злом, которое научит крестьян восставать против властей. Как пишет Цви Гительман, «их теория состояла в том, чтобы, громя евреев, крестьянство училось самоутверждаться и давать отпор своим угнетателям» [Gitelman 1988: 13]. Об отношении революционеров к погромам см. также статью Эриха Хаберера [Haberer 1992: 120]. Хаберер цитирует постскриптум Дейча к письму П. Лаврова П. Аксельроду от 14 апреля 1882 года [Аксельрод 2006: 66].
Хотя позднейшие истории опровергли гипотезу Дубнова о том, что верховные власти принимали участие в организации погромов, его оценка «Майских правил» как «легальных погромов» довольно точно характеризует те последствия, которые эти законы имели для евреев в черте оседлости [Dubnow 1975, 2:309].
Как заметил Джон Клир, «на практике реальное значение “Майских правил” состояло в том, что вопрос их правоприменения во многом был отдан на откуп местным властям, особенно полиции, которые могли интерпретировать их так, как им было вольно» [Klier, Lambroza 1992: 40].
ЦГИАК. Ф. 442. Оп. 536. Д. 66. Л. 9-10 (Петиция о местечке Копильня Полтавской губернии).
ЦГИАК. Ф. 442. Оп. 540. Д. 155. Л. 5 (Письмо св. м. Дашево, Липовецкого уезда, Августина Левицкого к обер-прокурору святейшего Синода за № 3425).
ЦГИАК. Ф. 442. Оп. 536. Д. 66. Л. 3–6 (Доклад к письму Митрополита Киевского Платона от 31 Марта 1883 года за № 4600, относительно перенесения ярмарок и торгов в селениях с воскресных дней на будни).
ЦГИАК. Ф. 442. Оп. 628. Спр. 299 (Киевский, подольский и волынский генерал-губернатор господину Министру Внутренних Дел от 15 июля 1898 г.).
Генриетта Мондри так пишет о ситуации в России в 1881–1882 годы: «Евреи стали в российском обществе и культуре стереотипным эталоном этнического чужака, который самой природой был наделен иным лицом и телосложением и чьи душевные и моральные качества составляли самую суть его “иной” души» [Mondry 2009: 30].
М. А. Крутиков в своем недавнем исследовании, посвященном Мееру Винеру, так резюмирует критику последнего в адрес Мойхер-Сфорима: «Он хорош в стилизации, сатире и пародии до тех пор, пока все это служит ему для общественной критики; но, когда он пытается использовать это в “национальных” интересах, его стиль становится “орнаментальным”, подражательным, выспренным и помпезным» [Krutikov 2011: 235].
Как писал Мирон, «этот роман был задуман как методичное исследование жизни русских евреев в различных условиях: в штетле, в новом коммерческом центре внутри черты оседлости, вероятно, в современном большом городе и, возможно даже, вне России» [Miron 1995: 97].
Прекрасный обзор того, как описывался Бердичев в еврейской литературе на идише, см. у Крутикова [Krutikov 2000].
Замечательный обзор художественной литературы на идише см. у Крутикова [Krutikov 2000: 22–56].
Смысл этой фразы в том, что, с одной стороны, многие евреи, выбравшие европейский образ жизни, сбривали бороды, а с другой – во время погромов обычным делом было вырывание у евреев бород.
Эта важная мысль о Менделе как о маске, за которой скрывается Абрамович, принадлежит Дану Мирону [Miron 1995: 123].
Дан Мирон пишет об этих словах Шолом-Алейхема: «Несмотря на оговорку о бедности и скромном масштабе еврейской литературы, он говорит о ней как о достойной сравнения с великими литературами и содержащей произведения различной жанровой направленности и эстетической ценности» [Miron 1995: 28].
Согласно Кену Фридену, он поступал так примерно в течение года, начав в 1908 году, а позднее обычно подписывался «Соломон» или «Соломон Рабинович» [Frieden 1995: 105].
Дэвид Роскис писал, что у Рабиновича «на столе была коробка, помеченная “Гоголь”, в которой он хранил свои недописанные работы; он часто цитировал Гоголя в личных письмах и даже носил прическу как у Гоголя» [Roskies 1995: 154]. Об этой коробке см. также у Ашера Бейлина [Beilin 1959: 55].
Рут Виссе в одном месте называет Шолом-Алейхема «еврейским Гоголем» [Wisse 2000: 48].
Дэвид Роскис, заимствуя у Пьера Нора концепцию lieu de memoire (место памяти), пишет о том, что Восточная Европа является местом памяти американских евреев [Roskies 1999: 12].
Я не согласна с такими исследователями, как Гарольд Клепфиш, который писал, что «невозможно в полной мере понять Тевье-молочника и проникнуться к нему сочувствием, если читатель хотя бы в какой-то мере не знаком с историей украинских евреев» [Klepfisz 2003: 209]. Как раз наоборот: благодаря произведениям Шолом-Алейхема жизнь украинского штетла – и еврейская жизнь вообще – стала явлением мировой литературы, доступным для понимания любому читателю.
В ранней версии речь шла о Бердичеве. Этот цикл входит в первый из двух томов, которые Шолом-Алейхем посвятил исключительно Касриловке [Sholem-Aleichem 1959, 2: 63; Шолом-Алейхем 1959, 4: 489].
Как писал Сол Гитлман, Рабинович-отец «был не только человеком с широкой эрудицией, но и ногидом — городским богачом, что делало его очень важной фигурой в постоянно нищем штетле, где большинство жителей балансировали на грани нищеты» [Gittleman 1974: 23].
Письмо к Равницкому № 5 от 30 декабря 1887 года. Цит. по книге Дэвида
Роскиса [Sholem Aleichem 1887; Roskies 1995: 148].
О теме двойной бухгалтерии в художественной литературе см. книгу Элиф Батуман [Batuman 2007].
Как писал Дэвид Роскис, «в своем первом цикле историй о Менахем-Мендле (1892) Рабинович возродил к жизни brivn-shteler (эпистолярный жанр) со всеми присущими ему архаичными формулами приветствия и завершения письма и помпезным стилем изложения» [Roskies 1995: 154].
Как замечает Дан Мирон, Менахем-Мендл «нашел в Одессе “все, что ни назови”; поскольку предметом сделок обычно были продукты, можно представить, что все это сжиралось в буквальном смысле слова» [Miron 2000: