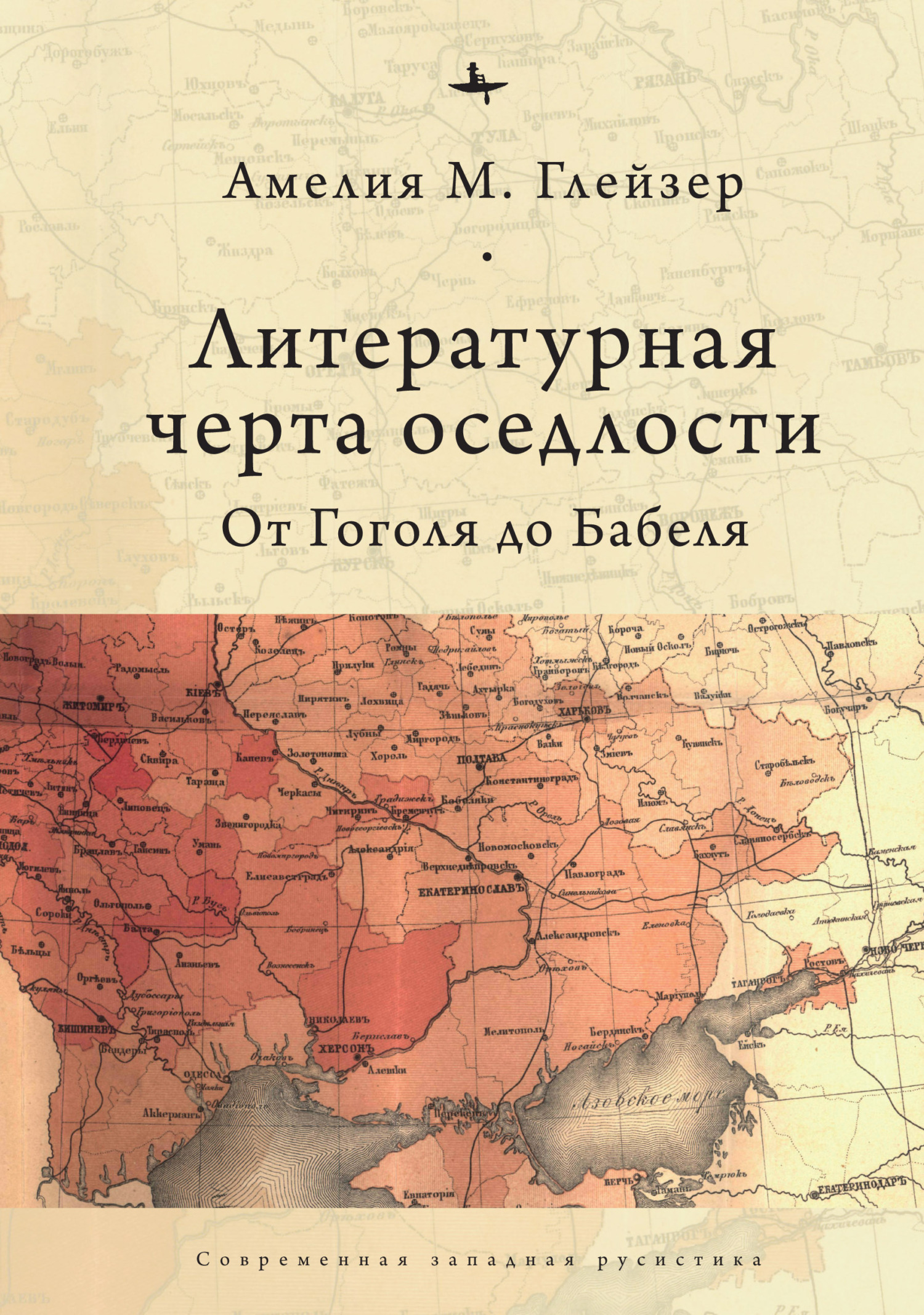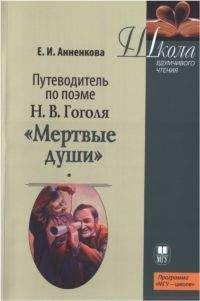167].
Тевье-молочник, например, вошел в литературную классику как персонаж, который постоянно неточно цитирует Тору на смеси древнееврейского и арамейского языков [Frieden 1997: 11].
Наоми Сайдмен находит в этом функциональном разделении еврейских языков гендерный аспект. Идиш символизировал привычную среду обитания, а иврит – идеализированный мир [Seidman 1997].
Д. Я. Айзман – русско-еврейский прозаик, помогавший переводить Шолом-Алейхема на русский язык.
Эта санктификация идиша оказалась пророческой: сто лет спустя у религиозных евреев-мужчин идиш является языком изучения священных текстов, а их женщины говорят на языке страны проживания (английском, французском или иврите) с использованием большого количества слов на идише. См. об этом у Митчелла [Mitchell 2006].
Первоначально рассказ назывался «Сказка без конца». Прекрасный анализ этого рассказа, включая историю его публикации, содержится у Роскиса [Roskies 1995: 160, 377].
Дэвид Роскис пишет об этой сцене: «Как можно надеяться найти дойную козу в местечке, где крестьянки на рынке не могут отличить курицу от петуха и где прозвища людей скрывают их истинную сущность?» [Roskies 1995:163].
Вот что пишет о Горьком Дональд Фэнгер: «Это был писатель, который действительно вышел из народа, писал про народ и для народа, совершенно не испытывая того трепетного сочувствия к народным страданиям, которое было присуще русской интеллигенции; он ненавидел того самого русского крестьянина, которого обожествляли Тургенев, Толстой и Достоевский, и был ницшеанцем-самоучкой – энергичным, непокорным, ни на кого не похожим» [Gorky, Fanger 2008: 2].
С. М. (Серж) Перский писал, что Горький был «продолжателем дела Гоголя: это особенно хорошо заметно в “Ярмарке в Голтве”» [Persky 1913: 158].
Цит. по книге Майзеля [Meisel 1965: 195].
Вольф Рабинович, брат Шолом-Алейхема, посвятил отношениям Шолом-Алейхема и Горького одну из глав своих воспоминаний [Meisel 1965: 196; Rabinovitsh 1939: 131–140].
Согласно Майзелю, этот проект так и не был реализован [Meisel 1965: 197].
Слова Дана Мирона о том, что в мире Шолом-Алейхема совершенно нет места христианам, являются явным преувеличением: достаточно прочитать рассказы из цикла о Тевье, чтобы увидеть, какую важную роль играли в штетлах священники. Однако мир, показанный нам Шолом-Алейхемом, действительно является в первую очередь миром еврейским [Miron 2000:2].
Вот что пишет Дан Мирон о штетле, описанном в повести «С ярмарки»: «Мы не можем представить, чтобы в его местечке были церковь, священник, церковный староста или вообще какая-то ни было организованная христианская деятельность» [Miron 2000: 2].
Менахем-Мендл торгует ценными бумагами, потому что, как отмечает Дан Мирон, «благодаря этому он не вступает в контакт с упоминаемыми им товарами в их физическом, реальном воплощении – а все они связаны либо с землей, либо со скотом» [Miron 2000: 166].
Эту мысль мы встречаем не только у Гоголя. Знаменитые слова Аристотеля о том, что «никто из других животных не смеется», были обыграны в эпиграфе Рабле к «Гаргантюа и Пантагрюэлю»: «Милей писать не с плачем, а со смехом, / Ведь человеку свойственно смеяться» («Mieux est de ris que de larmes ecrire. / Par ce que rire est le proper de I’homme»). Бергсон пишет об этом в своей статье о смехе: «Затем отойдите в сторону, посмотрите на жизнь как равнодушный зритель: много драм превратится в комедию. Достаточно заткнуть уши, чтобы не слышать музыки в зале, где танцуют, и танцующие тотчас же покажутся нам смешными» [Aristotle 1984, 1: 1049 (673а); Рабле 1981: 23; Leggatt 2002: 5, Бергсон 1999: 1281].
«Неу, kumt oyf baynakhtishn mark do fun shtilkayt, / oyf nakhtishn handl mit berd un mit beyner!» [Markish 1922: sec. 16]. Впервые Маркиш опубликовал эту поэму в Варшаве в 1921 году.
Точные цифры неизвестны, высказываются разные точки зрения. Детальный анализ того, как происходила эскалация обращенного против евреев насилия с конца XIX по начало XX века, содержится в книге «Pogroms» [Klier, Lam-broza 1992]; см. также работу Абрамсона [Abramson 1999].
Рубенштейн и Наумов приводят свидетельства того, что Маркиш считал себя чужаком в советской литературной среде, ссылаясь, среди прочего, на письмо, написанное им Моше Литвакову в 1926 году Маркиш писал: «Они практически исключили меня из еврейских литературных кругов Советского Союза» [Rubenstein, Naumov 2001: 109; Markish 1926].
Дата 12 августа 1952 года вошла в историю как «день казненных поэтов».
Тринадцать еврейских ученых, актеров, писателей и переводчиков были расстреляны. Среди прочих были казнены Маркиш, Бергельсон, Давид Гофштейн, Исаак Фефер и Лев Квитко. Материалы этого дела, а также разбор обвинений, предъявленных Маркишу, можно найти у Рубенштейна и Наумова [Rubenstein, Naumov 2001].
Как писал Хоне Шмерук, «по общему мнению, эти сборники первых послереволюционных лет и, возможно, даже те, что выходили в первой половине 1920-х годов, представляли собой исключительный литературный феномен. В них в полной мере отражены результаты деятельности “Киевской группы”» [Shmeruk 1970: 238].
Первая глава книги Маркова как раз посвящена анализу связей между футуризмом и импрессионизмом [Markov 1968: 1-28].
Стоит отметить, что в 1919 году еврейская литературно-художественная группа «Юнг идиш» разработала особый образно-пластический язык, близкий к эстетике футуризма и дадаизма. См. об этом у Волица [Wolitz 1991: 26–51].
Кеннет Мосс пишет, что 1917-й не был годом радикального перелома в еврейской культуре, скорее «еврейская интеллигенция почти единодушно (хотя и различными способами) воспользовалась этим моментом, чтобы пересмотреть, расширить и осознать культурные тренды, которые возникли задолго до этого времени» [Moss 2008b: 198].
Ф. Т. Маринетти. Технический манифест футуристической литературы (первоначально был написан по-французски и по-итальянски и раздавался на листовках 11 мая и 11 августа 1912 года. Также он