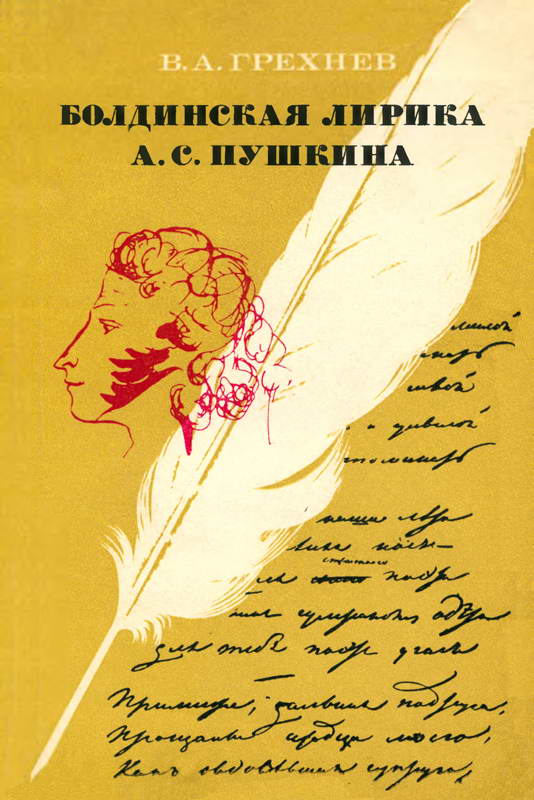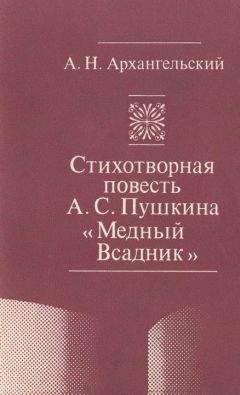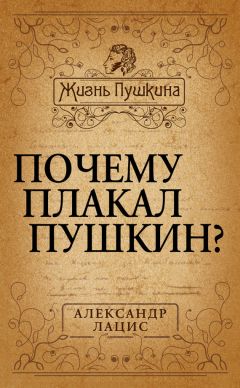эту черту уже рискованно переступать в конкретизации «смысла» «Бесов».
Усилиями таких пушкинистов, как Б. П. Городецкий и в особенности Д. Д. Благой, давно уже опровергнуто представление о «Бесах» как о непритязательной, хотя бы и классически совершенной вариации на чисто фольклорные темы. Сопоставляя окончательный текст с черновыми набросками Пушкина, Д. Д. Благой убедительно раскрыл направление художественной мысли Пушкина, приглушавшего в ходе работы над текстом детали, слишком явно перекликающиеся с мотивами народных поверий и сказок [16].
Пушкин уходил от слишком очевидных фольклорных конкретизаций. Возможно, не столько потому, что ему нужно было разделить «уровни» жизнеощущения (чисто фольклорное восприятие реальности у ямщика и сложное, обогащенное современным виденьем мира — у путника), сколько потому, что излишняя локализация фольклорных мотивов могла заслонить тот второй, символически широкий план изображения, которым, без сомнения, дорожил Пушкин. Фольклорные мотивы в «Бесах», по-видимому, нужны были поэту лишь постольку, поскольку они создавали общий колорит русского мира.
В болдинскую пору, как, впрочем, и прежде, Пушкин пользуется «языками» культурно-исторических эпох и коллективных форм миросознания как художественным материалом для выражения духовной позиции, не совпадающей с тем мировосприятием, на которое настроены эти «языки». Как бы ни была ощутима дистанция, разделяющая конфликтные сферы «Бесов» и «Заклинания» или «Для берегов отчизны дальной…», — там и здесь проступает один и тот же принцип: отчужденные поэтические «языки», «языки» традиции используются для воплощения резко нетрадиционных, подчас даже антитрадиционных художественных конфликтов. Мы говорим здесь о «языках», подразумевая не только область поэтического слова. Имеются в виду поэтические системы, уже изжитые в ходе развития современного Пушкину художественного мышления или отодвинутые бурным ростом пушкинского гения. Этим понятием охвачены, следовательно, и сложившиеся в допушкинской поэзии речевые системы и жанрово-композиционные типы, сформированные традицией.
Известно, что Белинский рассматривал «Бесы» как балладу. Это была ошибка. Но когда мы зададимся вопросом, почему она возникла, станет ясно, что у нее были свои основания, что она, по крайней мере, не случайна. Приметы балладной стилистики действительно содержатся в пушкинском произведении, но содержатся в эстетически переосмысленном качестве. Балладное начало в «Бесах» подчинено воплощению иной, не балладной концепции мира. Воспользовавшись материалом жанровой стилистики, Пушкин создает произведение, выпадающее из сферы действия жанровых законов. Эффект новизны здесь тем более разителен, что пушкинские «Бесы», казалось бы, начинаются совершенно в духе романтической баллады. Народный склад речи, особенно ощутимый в начале произведения, побуждает вспомнить простонародную балладу Катенина, способы развертывания сюжета — балладную поэтику Жуковского. Но, перекраивая жанровую традицию, Пушкин не просто насыщает новым художественным смыслом традиционную «материю» жанра и не просто вводит элементы балладной поэтики в нетронутом виде, чтобы ближе к финалу «Бесов», отбросив старые жанровые вериги, вырваться на простор самобытного развития лирической темы. Пушкин дает своеобразный субстрат балладной поэтики в области сюжета, в частности. Черты этой поэтики словно бы подвергнуты аналитическому отбору. Пушкинское стремление к концентрации традиционных жанровых структур, к прояснению композиционных пропорций, к устранению побочных сюжетных мотивов сказывалось и раньше, когда поэт имел дело с большими формами романтического эпоса (южные поэмы Пушкина). Скажутся эти способы обращения с традицией и в стихотворении «Заклинание». Строя лирический сюжет в «Бесах», Пушкин виртуозно использует разработанную в балладах Жуковского поэтику таинственного, перевоплощая ее именно в том направлении, о котором говорилось выше.
Жуковский обладал редким умением напрягать балладный сюжет, искусно распределяя в нем спады и нарастания экспрессии. Он ослаблял временами туго натянутую струну действия, чтобы затем в нужный момент поразить воображение неожиданностью пугающей детали. Нужды нет, что Жуковский имел дело чаще всего с «запрограммированными» сюжетами переводимых им поэтических текстов. Достаточно сопоставить, к примеру, «Людмилу» Жуковского с «Леонорой» Бюргера, чтобы понять, как далеко ушел Жуковский не столько, пожалуй, в заострении сюжетной динамики (в этом смысле катенинский перевод куда динамичнее), сколько в нагнетании таинственной атмосферы вокруг балладного события. Лиризация баллады, предпринятая Жуковским, давала простор для особой формы воздействия на читательское восприятие, воздействия средствами авторского «голоса». Живой трепет этого «голоса», переходящего от идиллической умиротворенности к смятению, его повышенная эмоциональность, его предостерегающие вторжения в эпическое течение событий (сакраментальное «чу!» Жуковского стало у «арзамасцев» притчей во языцех) — все это и создавало особую тональность повествования, пронизанную роковыми предчувствиями, ожиданием ужасного. В поэтике романтической тайны было, правда, одно противоречие, ослабляющее силу художественного воздействия. Жуковский умел создавать музыку тайны, предощущение ужасного, но в изображении романтических ужасов он впадал в своего рода олеографичность. Давно известно, что ужасное производит впечатление лишь тогда, когда оно не вполне определенно, когда размыты его очертания и когда воображение может заполнить недостающие детали рисунка. Между тем призраки Жуковского склонны к материализациям, особенно в финалах. Финал «Людмилы» в этом смысле особенно красноречив: пляска мертвецов на кладбище, хор призраков, назидательно возглашающих авторскую сентенцию, таили в себе неожиданный комизм.
Унаследованная от сентиментализма изысканность и шаблонность пейзажных деталей (все эти «ручейки» и «зефиры») также ослабляли впечатление. Поэтической рафинированностью отмечен и склад речи в балладах Жуковского, вызвавший, как известно, нарекания Грибоедова и Пушкина, предпочитавших колоритно простонародную речевую манеру катенинских баллад. Расхождения стиля и предмета повествования у Жуковского были порою настолько ощутимы, что, казалось, его призраки вот-вот заговорят на жеманном языке светских дам и кавалеров, начитавшихся сентиментальной лирики и прозы Карамзина.
К 30-м годам баллада Жуковского уже отступала в прошлое, хотя поэт все еще продолжал (и небезуспешно) писать в этом жанре. Но в художественном мышлении эпохи еще не окончательно изгладился отпечаток, наложенный ранней русской балладой на поэтическую структуру жанра. Размыкая замкнутые в прошлом жанровые контексты, отказываясь от жанровых ограничений, поэзия пушкинской поры, естественно, не отбрасывала те элементы жанровой поэтики, которые несли в себе не исчерпанные традицией эстетические возможности. Напрягая в «Бесах» поэтический сюжет не столько за счет динамики событий (хотя и за счет этого тоже), сколько за счет настроения, в которое погружено событие, умело нагнетая это настроение от строки к строке, обостряя его с помощью экспрессивно насыщенного диалога, Пушкин подхватывает именно те стороны балладной поэтики Жуковского, которые обогатили историю этого жанра.
С первых же строк пушкинского стихотворения мы погружаемся в стихию тоски и тревоги, жутких предчувствий. В композиции «Бесов» есть образ, который определяет собой не только опорные детали предметного плана, но до известной степени и характер ритма. Это образ «кружения», снежного вихря, бесконечного «бесовского» круговорота метели: «В поле бес нас водит, видно, И кружит по сторонам», «Сил нам нет кружиться доле», «Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре». Настойчивое повторение этого образа, конечно же, не