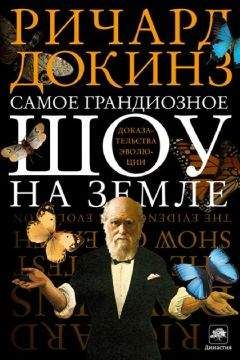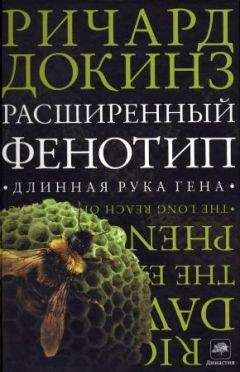Ознакомительная версия.
Чтобы досконально разъяснить теоретическое значение паразитов, понадобится слишком много времени. Вкратце же можно рассказать так. Все “евгенические” теории сталкиваются с одной и той же проблемой. Если бы самки действительно могли безошибочно выбирать самцов с наилучшими генами, тогда чем успешнее они выбирали бы, тем более узким становился бы их выбор в будущем: в конце концов вокруг остались бы одни только хорошие гены, и у самок не было бы никакой необходимости быть разборчивыми. Паразиты устраняют это теоретическое затруднение. Дело в том, что, как полагает Гамильтон, паразиты ведут бесконечную цикличную гонку вооружений со своими хозяевами. А это в свою очередь значит, что для любого отдельно взятого поколения птиц “наилучшими” будут не те же самые гены, которые окажутся наилучшими для следующих поколений. То, что эффективно против нынешнего поколения паразитов, не годится для борьбы со следующим, проэволюционировавшим. Следовательно, какие-то самцы всегда будут генетически лучше других оснащены против злободневной инфекционной напасти. Получается, что самка окажет своему будущему потомству наибольшую услугу, если выберет самого здорового самца в своем поколении. Для сменяющих друг друга поколений самок универсальными критериями выбора могут служить лишь те признаки, которыми воспользовался бы и любой ветеринар: ясные глаза, лоснящиеся перья и т. п. Всем этим может похвастаться только истинно здоровый самец, и потому отбор благоприятствует тем самцам, которые демонстрируют свои симптомы здоровья на всю катушку и даже чрезмерно подчеркивают их при помощи длинных хвостов и раскидистых опахал.
Однако эта паразитарная теория, пусть даже она и может оказаться верной, никак не относится к теме данной главы, посвященной “взрывам”. Вернемся к выдвинутой Фишером и Лэндом “теории выхода из-под контроля”. Теперь ей нужны подтверждения из реального животного мира. Как нам получить их? Какие методы использовать? Многообещающий подход придумал Мальте Андерссон из Швеции. Вышло так, что он работал с тем же самым видом птиц, который мы используем здесь в теоретических рассуждениях, — с длиннохвостым бархатным ткачом — и изучал его в природных условиях в Кении. Свои эксперименты Андерссон сумел осуществить благодаря недавней технической новинке — суперклею. Он рассудил так. Если реальная длина хвоста самцов представляет собой компромисс между утилитарным оптимумом и тем, чего хотят самки, значит, можно сделать самца сверхпривлекательным, подарив ему чрезмерно длинный хвост. Вот тут-то и пошел в дело суперклей. Я вкратце опишу опыт Андерссона, являющий собой превосходный образец хорошо продуманного эксперимента.
Андерссон отловил 36 самцов длиннохвостого бархатного ткача и разделил их на девять групп по четыре птицы в каждой. С каждой группой он обходился одинаково. Одному самцу (выбранному строго случайным образом, чтобы не было никакой неосознанной необъективности) хвостовые перья укорачивались до 14 см (около 5½ дюйма). Отрезанная часть приклеивалась с помощью быстросхватывающегося суперклея к кончику хвоста второго самца из четверки. Итак, у первого самца хвост был искусственно укорочен, а у второго — искусственно удлинен. Хвост третьей птицы для сравнения оставляли в неприкосновенности. А у четвертого из самцов хвост тоже оставался прежней длины, но отнюдь не неприкосновенным. Кончики его перьев были отрезаны, а затем приклеены обратно. На первый взгляд, пустая трата времени, но на самом деле это хороший пример того, как тщательно нужно планировать эксперименты. Ведь на птицу могло повлиять не изменение длины хвоста как таковое, а сам факт, что ее ловили, трогали и проводили манипуляции с ее хвостовыми перьями. Группа 4 служила контролем на случай подобных эффектов.
Целью этого опыта было выяснить, насколько успешным в спаривании будет каждый самец по сравнению со своими товарищами из той же четверки. Претерпев ту или иную процедуру над своим хвостом, птицы могли вернуться на прежнее место жительства и вновь занять свою территорию. Здесь они возвращались к своим обычным делам: привлечению самок, спариванию, постройке гнезд и обзаведению потомством. Вопрос был в том, кто же из четверки добьется наибольшего успеха в соблазнении самок. Чтобы выяснить это, Андерссон не только в буквальном смысле слова следил за самками, но и, выждав, подсчитывал количество гнезд с яйцами на территории каждого из самцов. В итоге он выяснил, что самцы с искусственно удлиненными хвостами покорили примерно в четыре раза больше самок, чем самцы, чьи хвосты были искусственно укорочены. Самцы с хвостами нормальной, естественной длины показали промежуточный результат.
Чтобы исключить возможность случайного совпадения, данные были обработаны статистически. Вывод был сделан следующий: если бы привлечение самок было единственным предназначением хвоста, тогда самцам следовало бы иметь более длинные хвосты, чем те, что у них есть. Другими словами, половой отбор постоянно тянет хвосты (в эволюционном смысле) в сторону удлинения. Тот факт, что в реальности хвосты короче тех, какие самки предпочли бы, наводит на мысль, что существует и какое-то иное давление отбора, удерживающее длину хвоста на нынешнем уровне. Это “утилитарный” отбор. Предположительно обладатели особенно длинных хвостов гибнут с большей вероятностью, чем самцы с хвостами средней длины. К сожалению, у Андерссона не было времени проследить дальнейшую судьбу птиц, подвергнутых им пластической хирургии. Найди он на это время, прогноз был бы такой: самцы с приклеенными дополнительными перьями в среднем гибли бы раньше нормальных самцов — возможно, из-за большей уязвимости для хищников. А самцы с искусственно укороченными хвостами должны были бы, вероятно, жить дольше, чем обыкновенные самцы. Все это потому, что, по-видимому, нормальная длина хвоста представляет собой компромисс между оптимальным значением для полового отбора и оптимумом для отбора утилитарного. Не исключено, что птицы с искусственно укороченными хвостами окажутся ближе к утилитарному оптимуму, а потому и проживут дольше. Впрочем, тут много допущений. Если, к примеру, с утилитарной точки зрения главный недостаток длинного хвоста состоит не столько в опасности погибнуть из-за его размеров, сколько в экономических затратах на то, чтобы его отрастить, тогда у самцов, получивших увеличенный хвост на блюдечке, в качестве безвозмездного дара от Андерссона, продолжительность жизни, возможно, и не особенно сократится.
Я писал так, как будто предпочтения самок стремятся непременно направлять эволюцию хвостов и прочих украшений в сторону увеличения. Но мы уже знаем, что теоретически нет никаких препятствий, которые мешали бы женским прихотям подталкивать эволюцию в противоположном направлении — например, не удлинять хвосты, а укорачивать их. Хвост обыкновенного крапивника представляет собой столь короткий обрубок, что так и тянет поинтересоваться, уж не короче ли он, чем “должен” быть с точки зрения голого прагматизма. Конкуренция между самцами крапивника очень велика — это можно заключить даже из их несоразмерно громкого пения. Такое пение не может не быть затратным, и известны случаи, когда поющие самцы крапивника надрывались в буквальном смысле до смерти. На территории успешных самцов селится по нескольку самок, как и у бархатных ткачей. Такая напряженная обстановка располагает к возникновению положительных обратных связей. Может ли короткий хвост крапивника быть результатом неконтролируемой “эволюционной усадки”?
Оставим крапивников в стороне, нам и без них хватает правдоподобных примеров, которые можно трактовать как следствия взрывной эволюции, идущей по восходящей спирали и движимой положительными обратными связями: веер павлина, хвосты бархатного ткача и райской птицы. Фишер и его современные последователи показали нам, как могут возникать подобные явления, отдающие безвкусицей и сумасбродством. Насколько неразрывно связана эта теория с половым отбором? Можно ли найти ей какие-то убедительные аналогии среди других эволюционных процессов? Стоит задаться этим вопросом хотя бы только потому, что наша собственная эволюция в некоторых отношениях определенно имела взрывной характер. Особенно это заметно на примере нашего головного мозга, который рос как на дрожжах в течение последних нескольких миллионов лет. Высказывались предположения, что в этом виновен непосредственно половой отбор: мозговитость (или какое-то ее проявление — например, способность запомнить последовательность движений продолжительного и сложного ритуального танца) могла быть сексуально привлекательным признаком. Но также взрывообразное увеличение мозга могло произойти под влиянием какой-то другой разновидности отбора — аналогичной половому отбору, но не идентичной ему. Тут, думаю, имеет смысл разграничить между собой два типа возможных аналогий с половым отбором: поверхностную аналогию и глубинную аналогию.
Ознакомительная версия.