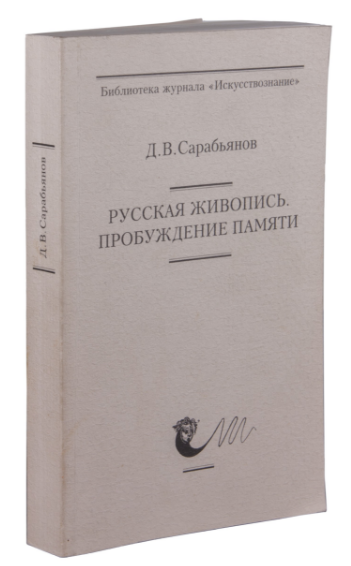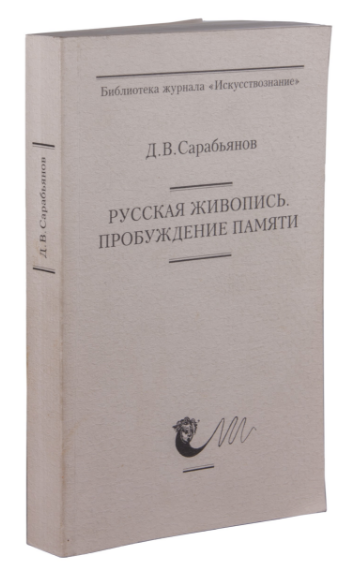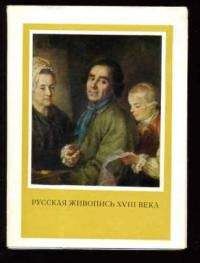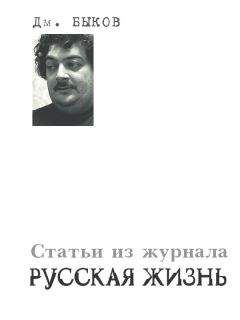технике. Маковцы охотно публиковали литографии в своем журнале, а в начале 20-х годов издали несколько литографированных альбомов, для чего привлекли художников из других объединений. Показательно, что всех тянуло к этой технике, которая за несколько лет ранее так изобретательно и плодотворно была использована Ларионовым и художниками его круга в малоформатной футуристической книге, а теперь так подошла стилю «Маковца».
Приведем некоторые примеры. Литография С. Романовича «Возвращение блудного сына» (1920), попавшая на обложку первого номера журнала, пейзаж Л. Жегина, опубликованный в сборнике пейзажных литографий 1921 года, демонстрируют ту же самую концепцию света. Литографии Н. Чернышева дают своеобразное соединение кубистических элементов со свето-лучистскими тенденциями, которые в конечном итоге побеждают.
Разумеется, наш анализ, а тем более вывод о том, что в творчестве маковцев сохраняются отголоски лучизма, требуют оговорок: эта тенденция, являясь доминирующей, не перекрывает всю деятельность членов Союза. Во-вторых, как видно из приведенных примеров, художники «Маковца» утверждают свою живописно-графическую систему в ситуации духовных исканий, казалось бы, далеких от интересов Ларионова, поэтому содержание лучистских опытов приобретает новый смысл.
Здесь нельзя не коснуться той атмосферы, в которой разворачивалась деятельность маковцев и которую во многом определял о. Павел Флоренский. Л. Жегин в своих воспоминаниях пишет о встречах с Флоренским, о разговорах, которые они вели, обсуждая произведения художника. Есть основания полагать, что и с другими членами объединения у Флоренского были двусторонние отношения, не говоря о прямом сотрудничестве о. Павла с Союзом. В «Письме в достохвальный „Маковец“» философ выражал надежду на то, что объединение станет «собирателем русской культуры» [235]. Интересно, что как раз в то самое время, когда складывался Союз, Флоренский работал над книгой «Иконостас», в которой высказал глубокие мысли об искусстве вообще, и об иконе в частности. Он выявил своеобразие иконы как художественного феномена, возникшего на восточнохристианской основе, в сопоставлении с ренессансной живописью Италии, имевшей ярко выраженные католические корни, и живописью голландской, произраставшей в лоне протестантизма. Флоренский демонстрирует различное отношение к свету в этих живописных системах. Икона в его представлении свидетельствует о понимании света как творящего начала:
Иконописец идет от темного к светлому, от тьмы к свету. Ведь наше обсуждение иконописной техники было сделано именно ввиду этой особенности ее (эта техника разобрана на предшествующих страницах. — Д.С.). Отвлеченная схема: окружающий свет, дающий силуэт — потенцию изображения и его цвета; затем постепенное проявление образа; его формовка; его расчленение; лепка его объема через просветление. Последовательно накладываемые слои краски, все более светлой, завершающиеся пробелами, движками и отметинами, — все они создают во тьме небывалый образ, и этот образ — из света [236].
В живописи итальянского Возрождения свет, по мнению и (следователя, выполняет иную роль. Исходя из определенного источника, он обнаруживает предмет или фигуру, а единством светотени художник выражает «предметность источника света» [237]. Что касается голландского варианта живописи (у Флоренского фигурирует Рембрандт), то она несет в себе отзвук пантеизма, ибо «у Рембрандта никакого света, объективной причины вещей нет, и вещи светом не производятся, а суть первосвет, самосвечение первичной тьмы...» [238]
Предложенная Флоренским классификация, по словам самого автора, допускает отклонения и действительна как тенденция, а не как строгое правило. Разумеется, она может быть применена к историко-художественным явлениям с оговорками — хотя бы потому, что философ ставит в один ряд и сравнивает явления, находящиеся на разных стадиях исторического развития. Допуская подобную же вольность, мы можем сопоставить идею творящей энергии света со стилевыми особенностями мастеров «Маковца», совершенно не думая о сравнении их произведений с иконами «по другим статьям».
Зададимся теперь другим вопросом: где следует искать исторические корни идеи творящей силы света? Стоит ли за этой идеей какая-либо традиция, соответствующая особенностям национального менталитета? Отвечая на них, мы должны углубиться в далекие исторические эпохи, рискуя вызвать недоумение и упрек в антиисторизме. Ниже мы откликнемся на этот возможный упрек.
В начале XX столетия русских философов — особенно Л. Лосева и П. Флоренского — интересовал вопрос о тех богословских и философских концепциях, которые предопределили своеобразную сущность православия. Речь в данном случае идет о знаменитом споре о Фаворском свете, возникшем в XIV веке между Григорием Паламой и Варлаамом и разрешенном в пользу первого Константинопольским собором 1351 года. Различие между двумя позициями, выявившееся в споре, продемонстрировало одну из главных причин противостояния восточного и западного христианства. С одной стороны — онтологичность энергии Божьей, ибо свет неотделим от существа Бога и есть сам Бог, хотя Бог сам не есть свет (Григорий Палама). С другой — свет как тварное явление — производное и, таким образом, отделенное от Бога, служившее в ситуации Преображения источником психологически-гносеологического эффекта (Варлаам).
Согласимся, мы слишком далеко отошли от конкретного предмета рассмотрения, и сопоставление произведений русских мастеров 1910-1920-х годов с идеями Григория Паламы может показаться абсурдным. Но тогда это — абсурд самой истории. Все, что сказано выше, не означает, будто Чекрыгин или Жегин вслед за Лосевым и Флоренским углубились в исторические истоки спора о Фаворском свете, хотя мы и можем допустить такое, ибо оба художника интересовались философско-богословскими проблемами. Но даже если бы мы располагали данными, подтверждающими, что это так, они не стали бы решающим аргументом в пользу нашего предположения. Национальный менталитет складывается веками и заявляет о себе совершенно неожиданно — чаще всего вне зависимости от позиции и желания субъекта истории.
И последний вопрос, который лежит в основе всей выстроенной нами конструкции: как соотносится эта концепция света с Ларионовым? Если мы обратимся к теоретическим сочинениям самого художника и его товарищей по объединению, то нигде не найдем указаний на истолкование света как божественной энергии, творящей мир. В соответствии с теорией Ларионова, лучи отражаются от предметов, преломляются и затем фиксируются художником, пользующимся правом выбора. Другое обстоятельство, не позволяющее отождествить концепции маковцев и Ларионова, заключается в том, что последний не обращается в своих манифестах к категориям, хотя бы косвенно отсылающим нас к проблемам духовной жизни. Лишь в одном случае он заверяет читателя, что «весь мир, во всей своей полноте, как реальный, так и духовный, может быть воссоздан в живописной форме» [239].
Было бы заманчиво сопоставить «пневмолучизм», чем Ларионов занимался в последнее время перед отъездом за границу, с «пневматосферой» Флоренского, которую в письме Вернадскому о. Павел определил как особого рода вещество, включенное «в круговорот культуры или, точнее, в круговорот духа» [240]. Но, к сожалению, приставка пневмо- связана у Ларионова со словом воздух, а не со словом