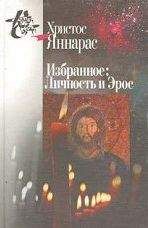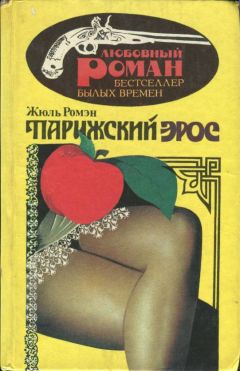γενόμενοι ἄνευ διδαχῆς πολυγνώμονες εἶναι δόξουσιν, ἀγνώμονες ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος ὄντες, καὶ χαλεποὶ συνεῖναι, δοξόσοφοι γεγονότες ἀντὶ σοφῶν.
…будут считать себя многоумными, будучи по большей части неумными, а сверх того, тягостными в общежитии.
(Phdr., 275b)
По разумению Сократа, мудрость – нечто живое, ton logon zōnta kai empsychon, «живое дышащее слово» (276a), и она рождается, когда говорят двое. Перемены – ее неотъемлемое свойство; не потому, что меняется мудрость, а потому, что это делают люди, потому что они должны меняться. Напротив, по мнению Сократа, написанное слово особенно статично:
Δεινὸν γάρ που, ὦ Φαῖδρε, τοῦτ᾽ ἔχει γραφή, καὶ ὡς ἀληθῶς ὅμοιον ζωγραφίᾳ. καὶ γὰρ τὰ ἐκείνης ἕκγονα ἕστηκε μὲν ὡς ζῶντα, ἐὰν δ᾽ ἀνέρῃ τι, σεμνῶς πάνυ σιγᾷ· ταὐτὸν δὲ καὶ οἱ λόγοι· δόξαις μὲν ἂν ὥς τι φρονοῦντας αὐτοὺς λέγειν, ἐὰν δέ τι ἔρῃ τῶν λεγομένων βουλόμενος μαθεῖν, ἕν τι σημαίνει μόνον ταὐτόν ἀεί.
Письменность, Федр, заключает в себе одно ужасное свойство и, поистине, подобна живописи. В самом деле: произведения живописные стоят, как живые; но если обратиться к ним с каким вопросом, они хранят торжественное молчание. То же самое и речи: можно подумать, они мыслят о чем-нибудь и говорят; а если желающий научиться спросит их о том, что в них говорится, они всегда дают только одно и то же указание.
(Phdr., 275d-e)
Подобно живописи, написанное слово заставляет живые существа застывать во времени и пространстве, создавая видимость того, что они одушевлены, но на самом деле они оторваны от жизни и не способны меняться. Логос в устной форме – живой, изменчивый, неповторимый мыслительный процесс. Он случается лишь однажды и невозвратно. Речь, написанная мастером своего дела, может приблизиться к этому живому организму посредством надлежащей упорядоченности и взаимосвязанности своих частей:
ὥσπερ ζῷον συνεστάναι σῶμά τι ἔχοντα αὐτόν αὑτοῦ, ὥστε μήτε ακέφαλον εἶναι μήτε ἄπουν, ἀλλὰ μέσα τε ἔχειν καὶ ἄκρα, πρέποντα ἀλλήλοις καὶ τῷ ὅλῳ γεγραμμένα.
…как составлено живое существо, что она должна иметь как бы свое тело, не быть без головы, без ног, должна иметь туловище и конечности – все это в надлежащем соответствии одно с другим и с целым.
(Phdr., 264с)
Если же автор плох, как, скажем, Лисий, то он даже не попытается придать написанному подобие жизни, он начнет с конца, начисто игнорируя органичную последовательность. Можно начать знакомиться с подобного вида логосом с любого места и обнаружить, что он говорит одно и то же. Будучи записанной, речь продолжит повторять одно и то же снова и снова внутри себя, вновь и вновь, до бесконечности. В качестве средства коммуникации она не имеет никакой силы.
Сократ подкрепляет утверждение о том, что Лисий – плохой автор, аналогией с надписью на могиле. «Это очень похоже на надпись на могиле Мидаса Фригийца», – говорит он о рассуждениях Лисия и тут же цитирует эту надпись:
Χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδα δ᾽ ἐπὶ σήματι κεῖμαι.
ὄφρ᾽ ἄν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθὴλῃ,
αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαύτου ἐπὶ τύμβου,
ἀγγελέω παριοῦσι Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται.
Медная девушка я, нахожусь на могиле Мидаса.
Здесь я, покамест струится вода, расцветают
деревья.
Буду все это время лежать на могиле печальной,
Путникам всем возвещая прохожим,
что здесь лежит Мидас.
(Phdr., 264d)
Сравнение весьма удачное на нескольких уровнях, поскольку как форма, так и содержание надписи воплощают то, по мнению Сократа, чему не стоило бы доверять в написанном слове; также он не преминул посмеяться над самим Лисием. По сути надпись представляет собой эпитафию: сообщение о смерти и вызов вечности. Она обещает предъявить вечности один неоспоримый факт в неизменной форме: Мидас умер. Говорит она голосом девушки, вечно юной и гордо отрицающей власть над собою времени, перемен и жизненных процессов. Она отстранилась от Мидаса: он мертв, она – буквы.
Помимо того, продолжает Сократ, у этой эпитафии есть одна примечательная особенность. Каждая ее строка не зависит от остальных ни по содержанию, ни по размеру, так что, в каком бы порядке ни читать эти строки, смысл останется примерно тем же:
ὅτι δ᾽ οὐδὲν διαφέρει αὐτοῦ πρῶτον ἢ ὕστατόν τι λέγεσθαι, ἐννοεῖς που, ὡς ἐγᾦμαι.
Ты замечаешь, я думаю, что нет никакой разницы, читать ли в надписи тот или иной стих раньше, или после другого.
(Phdr., 264е)
Именно эта деталь выглядит насмешкой над Лисием. Совершенно очевидно, что стихотворение, строки которого взаимозаменяемы, сопоставляется с речью, начинающейся там, где ей бы следовало заканчиваться, и лишенной всякой связности в процессе изложения. Но давайте при сопоставлении текстов сосредоточим внимание на тех реалиях жизни, которые при этом проступают. Эпитафия Мидаса содержит несколько характерных деталей, сходных с теорией любви, излагаемой Лисием в своей речи.
Подобно не-поклоннику Лисия, слова эпитафии утверждают себя вне времени и объявляют свою непричастность к миру тех, чья жизнь быстротечна. Именно на этой разнице не-поклонник по Лисию основывает свое моральное превосходство над влюбленным. Достигается эта разница уходом от момента, который влюбленный воспринимает как «сейчас»: от момента желания, в котором влюбленный теряет над собой контроль. Не-поклонник, точно так же, как слова на могиле Мидаса, смотрит в будущее. Отстраняясь от момента желания, он тем самым отстраняется и от своих чувств и может рассматривать все моменты любовной связи как равнозначные и взаимозаменяемые. Ни эротическая теория Лисия, ни его речь не признают необходимости какой-либо упорядоченности во времени составляющих ее частей. Так и слова на могиле Мидаса тоже выходят за пределы временного порядка как формой, так и содержанием. Будучи неизменными, они обещают своему читателю то же самое, что Лисий возлюбленному – неизменность и постоянство перед лицом все изменяющего времени.
Теперь поговорим о самом Мидасе. Как мифологический символ Мидас заслуживает некоторого внимания, ведь надпись на его могиле повторяет ключевую, губительную ошибку, совершенную им при жизни.
С античной точки зрения его случай парадоксален. К примеру, Аристотель приводит его как пример абсурдности желания при наличии богатства:
καίτοι ἄτοπον τοιοῦτον εἶναι πλοῦτον οὗ εὐπορῶν λιμῷ ἀπολεῖται, καθάπερ καὶ τὸν Μίδαν ἐκεῖνον μυθολογοῦσι διὰ τὴν ἀπληστίαν τῆς εὐχῆς πάντων αὐτῷ γιγνομένων τῶν παρατιθεμένων χρυσῶν.