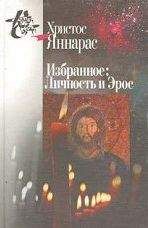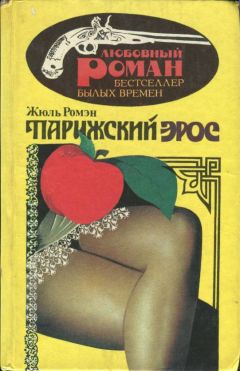рода богатство может оказаться прямо-таки не имеющим никакого смысла, и человек, обладающий им в преизобилии, может умереть голодной смертью, подобно тому легендарному Мидасу, у которого вследствие ненасытности его желаний все предлагавшиеся ему яства преврашались в золото [67].
(Pol., I, 3.11257b)
Мидас – метафора человека, который угодил в ловушку собственного желания, стремящийся коснуться и не касаться одновременно – точно так же, как дети со льдинками в руках в стихах Софокла. Идеальное желание – идеальная тупиковая ситуация. Что хочет желающий от желания? Четко и ясно: продолжать его испытывать.
Прикосновение Мидаса, обращающее любые предметы в золото, – вот мощный образ идеального, самоуничтожающего и самоувековечивающего желания. В этом смысле Мидас напоминает того самого дурного влюбленного, которого порицают в своих речах и Сократ, и Лисий – ведь своим прикосновением он губит то, что любит. Губит, обращая в золото. Заставляя застыть во времени. Так и злочинный влюбленный желает, чтобы живой организм его paidika навечно застыл в золотой поре, в расцвете юношеской красы, дабы идеально наслаждаться ею как можно дольше. Прикосновение Мидаса останавливает время и для влюбленного – его собственная эмоциональная жизнь застывает в моменте желания.
Платон не проводит прямых параллелей между Мидасом и влюбленным, который хочет остановить время; тем не менее образ Мидаса с большой вероятностью выбран им для того, чтобы сделать прикосновение Мидаса метафорой желания. Это важная метафора, поскольку она помогает выявить основное разногласие между теориями эроса у Сократа и у Лисия. Обе теории сходятся в том, что желание приводит того, кто его испытывает, к парадоксальным отношениям со временем. Обе теории находят, что конвенциональный erastēs решает проблему, прибегая к определенной тактике, пытаясь обернуть вспять течение физической и духовной жизни, увлекающее его возлюбленного дальше в жизнь. И Сократ, и Лисий признают пагубность такой тактики; а вот как лучше быть – в этом они не сходятся. Лисий при помощи придуманного им не-поклонника предлагает вообще сделать шаг в сторону от времени. Если проблему создает момент «сейчас», представь себе, что наступило «тогда» – и так ты ее избегнешь. Сократ отозвался об этой тактике как о попытке «плыть вспять» в своей речи (264а) и сравнил ее с jeu d’esprit на Мидасовой могиле. Но Сократ возражает не только против риторических приемов, он осуждает Лисия за то, что его взгляды – прегрешение против эроса (242е). Далее по ходу диалога выясняется, что он имеет в виду: Лисиева теория любви нарушает естественный ход физических и умственных перемен, которые свойственны человеку во времени. Что происходит, когда кто-то вздумает самоустраниться от участия в ходе времени? Платон приводит три образа, обозначающие три варианта ответа на этот вопрос.
Первый – сам Мидас. На могиле, как и при жизни, он окружен преходящим, в котором не может участвовать. Его трагедия началась с ненасытной жадности, а жизнь закончилась от нужды – этот парадокс явно отсылает нас к эротическому желанию. Но Платон лишь намекает на жизнь Мидаса и ее перипетии, так что, наверное, и нам не стоит выводить их на первый план. Нам нужно обратиться к еще одной разновидности существ, упомянутых в данном диалоге и разделяющих Мидасову дилемму как в общих чертах, так и в своем отношении к нужде.
Цикады также проводят жизнь, моря себя голодом, пока не умрут оттого, что стремились к желаемому. Появляются они в диалоге как бы мимоходом: Сократ, переходя от темы к теме, вдруг слышит, как они поют наверху в ветвях. Он указывает на них Федру:
…καὶ ἅμα μοι δοκοῦσιν ὡς ἐν τῷ πνίγει ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν οἱ τέττιγες ᾄδοντες καὶ ἀλλήλοις διαλεγόμενοι καθορᾶν καὶ ἡμᾶς.
…мне думается, цикады, как это при жаре бывает, над нашей головой поют, ведут беседу между собою, смотрят и на нас.
(Phdr., 258е)
Федр заинтересовался цикадами, и Сократ рассказывает ему известную легенду:
λέγεται δ᾽ ὥς ποτ᾽ ἦσαν οὗτοι ἄνθρωποι τῶν πρὶν Μούσας γεγονέναι, γενομένων δὲ Μουσῶν καὶ φανείσης ᾠδῆς οὕτως ἄρα τινὲς τῶν τότε ἐξεπλάγησαν ὑφ᾽ ἡδονῆς, ὥστε ᾄδοντες ἠμέλησαν σίτων τε καὶ ποτῶν, καὶ ἔλαθον τελευτήσαντες αὑτούς· ἐξ ὧν τὸ τεττίγων γένος μετ᾽ ἐκεῖνο φύεται, γέρας τοῦτο παρὰ Μουσῶν λαβόν, μηδέν τροφῆς δεῖσθαι γενόμενον, ἀλλ᾽ ἄσιτόν τε καὶ ἄποτον εὐθὺς ᾄδειν, ἕως ἂν τελευτήσῃ…
Есть предание, что цикады, до появления Муз, были некогда людьми. Когда родились Музы и появилось пение, некоторые из тогдашних людей от удовольствия пришли в такое изумление, что все время пели, пренебрегали пищею и питьем и незаметно для самих себя умерли. От этих-то людей и произошли затем цикады. Они получили от Муз такой дар, что, родившись, вовсе не нуждаются в питании, но без пищи, без питья, тотчас начинают петь и все поют, пока не умрут…
(Phdr., 259b-c)
Подобно Мидасу, цикады тоже могут быть истолкованы как образ основополагающей дилеммы эроса. Они – существа, которых желание заставило бросить вызов времени. Причем это более благородная версия дилеммы, чем вариант Мидаса, ибо их страсть музыкальна, и они предлагают собственное решение парадокса влюбленного «сейчас и тогда». Цикады попросту остаются в «сейчас» собственного желания. Исключив себя из жизненных процессов, не замечая времени, они остаются в настоящем времени изъявительном наклонении собственного удовольствия с момента рождения и до тех пор, пока, по словам Сократа, незаметно для самих себя не умрут (elathon teleutēsantes hautous, 259c). У цикад нет жизни помимо желания, и, когда оно исчерпывается, уходят и они.
Вот альтернатива Лисиевой тактике. Не-поклонник избавляет себя от решения дилеммы «сейчас» и «потом», навечно поместив себя в точку, где желание заканчивается. Он жертвует ярким, мимолетным наслаждением «сейчас» влюбленного в обмен на постоянный «потом» устойчивого чувства и предсказуемого поведения. Жертва, приносимая цикадами, – нечто обратное: они жертвуют собственной жизнью в обмен на упоительный восторг «сейчас». Время и его течение не влияют на них. Они навечно застряли в живой смерти наслаждения.
В отличие от Мидаса, цикады выбором жизни-как-смерти вполне довольны. Однако они цикады. То есть когда-то они были людьми, но предпочли отказаться от человеческого облика, поскольку решили, что он несовместим с их желанием удовольствия. Это существа, единственным занятием которых в течение жизни является преследование собственного желания. Такой возможности нет ни у людей, ни у тех созданий, кто вынужден жить по законам времени. Но, как мы видели, те, кто охвачен желанием, однако, склонны недооценивать эту необходимость. И Платон приводит еще один образ, который описывает,