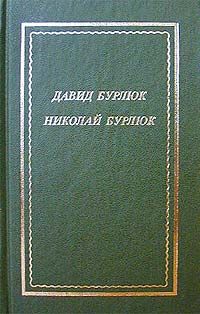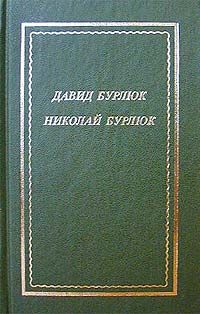чтобы подчеркнуть революционные идеалы, беспрецедентный прогресс и рационалистический утопизм коммунистического государства. Благодаря множеству новаторских приемов, основанных на присущем этому виду искусства движении, советские кинематографисты использовали скорость в качестве основного средства для приведения своей работы в согласие с советскими догмами, а также для того, чтобы превзойти по уровню динамики работы художников и поэтов.
Для советских киноавангардистов, объединявших на протяжении 1920-х годов эстетику и пропаганду, идеология скорости стала основополагающей для революционных кинематографических открытий в области техники и операторской работы. Кинематографисты теперь воплощали темп и механистический дух эпохи вполне революционным, убедительным образом. Создавая новаторские методы быстрого монтажа и извлекая абстрактные образы из все более механизированного пейзажа, режиссеры авангарда и их коллеги стремились воспитать нового зрителя, который в своих действиях будет разделять стремительность эпохи. Как я покажу в следующих двух главах, советские кинематографисты заставляли аудиторию активно взаимодействовать с быстрым потоком киноизображений. Как только зрители усваивали необходимые концептуальные и художественные связи между идеологически заряженными изображениями скорости на экране, они фактически могли участвовать в механизации страны и в ее быстром продвижении к утопическому будущему. Из этого следует, что советская публика должна была принять этот призыв к ускоренному построению идеального социалистического государства.
Однако во второй половине 1920-х годов пути идеологии и эстетики начали расходиться. С напором кинематографической скорости пришла тенденция подавлять зрителей головокружительным множеством кадров и идей. Более того, советские власти беспокоились о том, что темп самых новаторских фильмов страны может дезориентировать аудиторию или даже замедлить ее восприятие, поскольку интерпретация этих фильмов требовала кропотливой интеллектуальной работы – зрители могли испытывать трудности с осмыслением увиденного и извлечением идеологического посыла. Существовали опасения, что скорость советского кино может вызвать у зрителей двойственное отношение к тому, что показывают на экранах страны. В результате этого потенциального разрыва между искусством и зрителями быстрый монтаж уступил место более плавному, менее фрагментированному соединению изображений, требующему меньшего умственного и зрительного участия публики. Вскоре акцент сместился с быстро сменяющихся кадров на быстрое восприятие и неизменный темп. В последние годы десятилетия советское кино, по-прежнему давая некоторое представление о «внутренней» скорости, начнет делать все меньше упора на творческих приемах и «внешнем» темпе, существенном для лежащего в основе кинематографа динамизма и его революционной направленности. В конечном итоге активное участие аудитории было заменено на подчинение оной изображению, а новая сталинская концепция скорости, направленная в первую очередь на продвижение страны к коммунизму, пришла на смену творческому началу и динамизму этого революционного вида искусства.
Кинестетическое искусство
Я освобождаю себя с сегодня навсегда [писал Вертов в 1923 году как бы голосом своего киноаппарата] от неподвижности человеческой, я в непрерывном движении, я приближаюсь и удаляюсь от предметов, я подлезаю под них, я влезаю на них, я двигаюсь рядом с мордой бегущей лошади, я врезаюсь на полном ходу в толпу, я бегу перед бегущими солдатами, я опрокидываюсь на спину, я поднимаюсь рядом с аэропланами, я падаю и взлетаю вместе с падающими и взлетающими телами [Вертов 2004,2:40–41] (выделено в оригинале).
Зарождающееся искусство кинематографа – само его название происходит от древнегреческого слова «движение» – действительно предлагало соблазнительный, оригинальный взгляд на динамичную, но дезориентирующую атмосферу современности. Благодаря своей способности создавать иллюзию движения и тем самым давать зрителям новый способ восприятия скорости современной жизни кино, как никакое другое художественное средство, воплощало современное движение: статичные изображения, запечатленные крайне подвижным киноаппаратом и быстро сменяющие друг друга на большом экране, казалось, оживали.
При этом кинематограф, хотя и представлял собой механическое воссоздание движения во времени и пространстве, предлагал явно эстетизированную трактовку этого движения. Изобретенное в 1895 году, кино создавало ощущение скорости, невиданное в других видах искусства, за исключением, возможно, музыки, абстрактной по своей сути и не имеющей формы, не способной вызвать ощущение скорости в прямой, интуитивной форме, как это могло делать кино. Быстрая смена отдельных изображений – 16 или 18 кадров в секунду в эпоху немого кино и 24 кадра в секунду в звуковую эпоху – создавала зримое впечатление проходящего времени, а также наделяло художников XX века способностью придавать чисто визуальную форму своему переживанию современного времени и современного движения [261]. «Если существует эстетика кино, то… она заключается в одном слове: “движение”», – заявил французский кинорежиссер Рене Клер в 1924 году [Кракауэр 1974: 61].
Однако изначально не все считали кино средством, достоверно воплощающим физическое движение. Анри Бергсон– один из ранних критиков кино, пользовавшийся на рубеже веков огромным влиянием, – считал, что новый вид искусства показывает ложное движение. Кино, согласно Бергсону, представляет собой надуманное, «неинтуитивное» воплощение физического движения, поскольку оно просто собирает воедино отдельные неподвижные кадры, которые при последовательном просмотре лишь кажутся движущимися. Однако для теоретика кино Кристиана Метца именно эта видимость движения имеет первостепенное значение: «Поскольку движение никогда не материально, но всегда зримо, воспроизвести его – значит создать двойник его реальности» [Metz 1974: 9]. Или возьмем утверждение Жиля Делеза, что «кино не добавляет к образу движение, а дает нам непосредственно образ-движение» [Делез 2004: 42]. По мнению Метца и Делеза, оптическая природа скорости подтверждает правомерность воплощения ее средствами кинематографа, и, таким образом, зримое воплощение движения в кино составляет подлинное движение.
С самого начала кинематограф демонстрировал паровозы, автомобили и множество одушевленных и неодушевленных существ в пароксизме движения, но такое изображение скорости было далеко не единственным средством, которым кино обладало для исследования ритма и темпа современности. «Кино способно не только воспроизводить или искажать движение, но и создавать его», – писал теоретик кино Айвор Монтегю [Монтегю 1969: 37] [262]. Кинематографисты могли не только ускорять, замедлять или останавливать действие, но и монтировать наборы статичных изображений для создания кинестетических эффектов. Для первого поколения советских кинематографистов эта кинестезия представляла собой суть того, что скоро станет новым смелым подходом к новому виду искусства. В различных работах, от экспериментальной кинохроники до революционной агитации, скорость представляла собой всепроникающую и объединяющую силу, которая позволила советскому немому кино окончательно порвать с большим набором художественных условностей.
Дореволюционный темп
Хотя дореволюционное русское кино дает примеры впечатляющего художественного уровня, для советского авангарда его стиль и тематика представляли устаревший, «буржуазный» извод киноискусства. Подобно тому как первые советские кинематографисты отвергали общие принципы царской России, они быстро отказались от киноэстетики, которая преобладала в русском кино до свержения династии Романовых. Главным в этом отказе от прошлого было отрицание размеренного внутреннего и внешнего ритма раннего русского кинематографа, в котором советские кинематографисты видели свидетельство того, как другие виды искусства препятствовали развитию кино в России. Острая