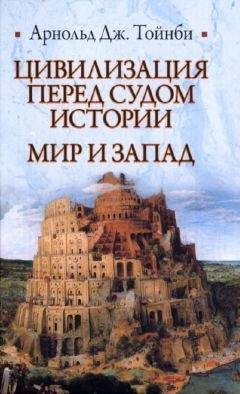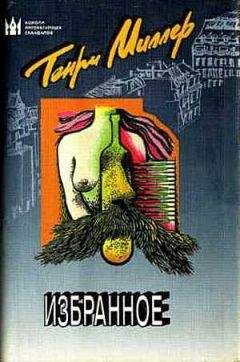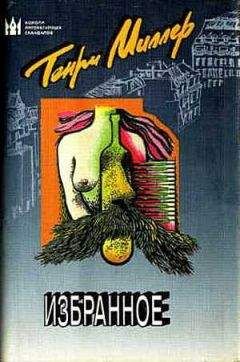выражения этой мысли – Витгенштейн: «Но не будем забывать и другого: когда “я поднимаю свою руку”, поднимается
моя рука. И возникает проблема: что же останется, если тот факт, что я поднимаю руку вверх, отделить от того, что поднимается вверх моя рука?» [Витгенштейн 1994,1:246].
Адорно Т. В. Эстетическая теория / Пер. А. Дранова. М.: Республика, 2001.
С. 287.
Подробно о черновых редакциях повести см. [Гудзий 1936: 561–624; Жданов 1967: 155–184].
Убежденность Толстого в том, что музыка передает эмоцию, прослеживается еще в раннем фрагменте «Определение музыки» (17 июня 1859 года), где он пишет: «Есть четвертое значеше музыки – значеше поэтическое. Музыка въ этомъ смыслЪ есть средство возбуждать черезъ звукъ извЪстныя чувства или передавать оныя» (1: 245).
Здесь я на время прерву описание, так как, на мой взгляд, можно привести доводы, что желания Позднышева простирались дальше. К таким аргументам относится, в частности, одержимость Позднышева Трухачевским. Даже когда он возвращается, чтобы уличить жену, признается Позднышев, «все, о чем я думал, имело связь с ним» (27: 67). К ним же можно отнести его описание внешности Трухачевского («Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы… лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен… с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят» (27:49) и своей тяги к нему: «…какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить» (27: 53), а также очень странное описание своего медового месяца: «Это нечто в роде того, что я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно» (27: 28) – все это, похоже, противоречит его заявлениям о собственном донжуанстве. Кажется, исследователи не уделяли вопросу о Позднышеве как о ненадежном рассказчике даже доли того внимания, которого он заслуживает. Тем не менее см. [Herman 1997; Baehr 1976], где содержатся некоторые проницательные замечания по этому поводу.
В этом отношении «Крейцерова соната» может соперничать с исповедальными ухищрениями рассказчика в «Записках из подполья» Ф. М. Достоевского. См. [Coetzee 1985].
Здесь Позднышев также открыто связывает свою стратегию материализации идеалов и чувств со своим пониманием Шопенгауэра: «А жить зачем? Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. И если так, то Шопенгауэры и Гартманы, да и все буддисты совершенно правы» (27:29–30).
Так что и здесь Толстой художественно перерабатывает собственный духовный кризис, как в «Анне Карениной», «Записках сумасшедшего» и «Исповеди».
Здесь также дело осложняется инвективами Позднышева в адрес «нравственного растления материализма» и отрицанием в главе 15 нравственных побуждений: «…если дурно живешь, то причина в ненормальности нервных отправлений или т. п.» (27: 40). Служит ли это моментом просветления, опровергающим постоянные диагнозы, которые он то и дело походя ставит себе и обществу, или наоборот? В той же главе он говорит: «Я – развалина, калека. Одно во мне есть. Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают» (Там же). Думаю, пока этот гордиев узел надежности можно только слегка ослабить.
В примечании к этому фрагменту Толстой описывает аппарат, «посредством которого очень чувствительная стрелка, приведенная в зависимость напряжения мускула руки, показывает физиологическое действие музыки на нервы и мускулы».
Жена Позднышева несколько раз совершала попытки самоубийства, и по меньшей мере один раз – с помощью опиума. Возникает вопрос, откуда она его взяла.
Похоже, он также намекает, что был склонен к мастурбации: рассказывая о своей юности, он замечает: «Уединения мои были нечистые» (27:18) – и далее: «Потом пошло дальше, дальше, были всякого рода отклонения» (27: 19).
Ш. Фелман – одна из немногих читателей, отметивших ревнивое и сексуально двусмысленное отношение Позднышева к Трухачевскому В своей наводящей на множество размышлений статье [Felman 1997] она интерпретирует его осознанное «свинство» (27:49) и осознанный «истинный разврат» («…истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение» (27: 17) как подтверждение универсального различания (differance), присущего человеческой сексуальности: «…внутренний раскол или пропасть не только между рассказчиком и его женой, но и в самом сексуальном влечении рассказчика-, именно эта пропасть обитает в человеческой сексуальности, подобно пустоте внутри хаотичного вихря притяжений и отталкиваний, соперничества и противоборствующих, тайных сексуальных двусмысленностей. Эта бездна различия (внутреннего и внешнего) не может не стать бездной конфликта <…> бездной, которая фатально и радикально отделяет сексуальность от самой себя, делает ее отличной от самой себя» [Felman 1997: 771–772]. В своем обобщенном объяснении, однако, Фелман не учитывает аспектов – каузальное vs. нормативное, витгенштейновское понятие «зла», – которые, на мой взгляд, могут приблизить нас к объяснению специфики характера Позднышева.
Ср. также: «Если бы не предлог ревности, то другой. Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал» (27: 50). В рассказе Позднышева «бешеный зверь ревности» (27: 63) связывается с другими присутствующими в повести расширенными образами животности (чувственность, разврат).
Поэтому я вынужден не согласиться с Дж. Коппером, полагающим, что «женившись, [Позднышев] поместил себя в рамки определенного кода поведения, допускающего то, что лишь позже сочтет недопустимым: ревность, секс и измену» [Коррег 1989:168]. При моем прочтении мы должны рассмотреть нравственную натуру самого Позднышева и не обязательно природу брака как такового (который, по его словам, существует не для развратников, а для тех, кто считает его таинством (27: 14–15).
Отметим удивительное сходство описаний Позднышева на пороге убийства и Кити, когда она ухаживает за умирающим братом Левина: «В ней было возбуждение и быстрота соображения, которые появляются у мужчин пред сражением, борьбой, в опасные и решительные минуты жизни, те минуты, когда раз навсегда мужчина показывает свою цену и то, что всё прошедшее его было не даром, а приготовлением к этим минутам» (19:66).