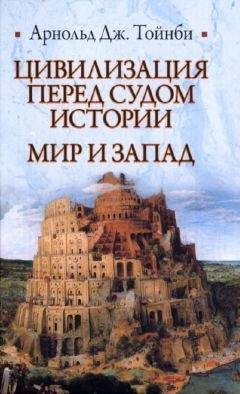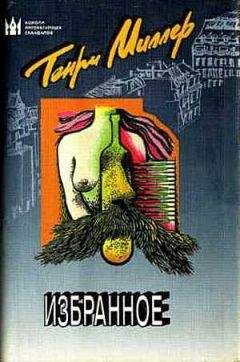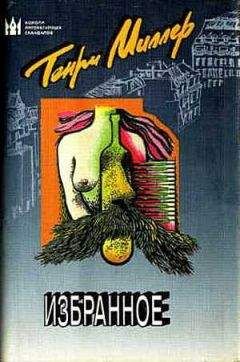Оба случая – хрестоматийные примеры волевых актов, действий, которые производятся спонтанно, без конфликтующих мотивов, возможно с аллюзией к аристотелевской добродетели мужества.
Дж. Вир сходным образом предполагает, что Позднышев не излагает, а попросту сочиняет свою историю, давая выход добровольной зависимости от адресата посредством выдумок: «Но лучший способ объяснить разницу между фабулой и сюжетом – перестать предполагать, что эта разница существует. История Позднышева – это сотворение устного рассказа; вот почему сюжет и повествование так хорошо сочетаются с неистовым стаккато поезда, который, конечно, служит идеальной декорацией для образцово-показательного рассказа о сексе и убийстве… [рассказчик] соблазняется энтузиазмом Позднышева и крепким чаем и вскоре сидит и спокойно, с пониманием и сочувствием, слушает» [Weir 2011: 164–165].
См. также [Edwards 1982]. К. Джанауэй показывает, что Витгенштейн в этом вопросе основывается на чтении Шопенгауэра [Janaway 1989: 336–342]. Джанауэй также демонстрирует, что в «Записных книжках» Витгенштейн развивал идеи Шопенгауэра о желании и действии, но исключил подобные мысли из «Трактата».
Этот аспект у Витгенштейна К. Даймонд иллюстрирует примерами из рассказа Н. Готорна «Родимое пятно» и «Сказки о рыбаке и его жене» братьев Гримм. В обоих произведениях главные герои демонстрируют этическое зло, ставя миру условия и впадая в озлобленность на весь мир, когда эти условия не выполняются.
Ср. у Витгенштейна в предварительных заметках периода работы над «Трактатом» дневниковую запись от 21 июля 1916 года: «Я хочу назвать “волей” [Willen], прежде всего, носителя добра и зла», так что даже парализованный человек, пока он способен «мыслить, желать [wiinschen], сообщать свои мысли другим», по-прежнему «в этическом смысле является носителем воли» [Витгенштейн 2015: 130]. Таким образом, «добро и зло входят только через субъекта» [Там же: 133].
Д. Герман – единственный известный мне исследователь, обративший внимание на эпиграф и его смысл: «Здесь часть аудитории с самого начала исключена из общего действа. Эпиграф намекает, что лишь некоторые читатели окажутся действительно понимающими, а именно те, кому личный опыт может дать понимание и убежденность, которых не предоставляет текст» [Herman 1997: 34]. Я не принимаю во внимание печально известное «Послесловие» к «Крейцеровой сонате», которое заслуживает более подробного рассмотрения, но не в рамках данной главы. Хотя оно, казалось бы, ставит под вопрос мое прочтение, так как в нем Толстой повторяет, явно от собственного лица и с явным одобрением, взгляды Позднышева на брак и секс, нужно было бы рассмотреть случай «Послесловия» (настораживающий столь многих, согласно моему прочтению, из-за прискорбного непонимания поэтики адресации в «Крейцеровой сонате»), а также проблему целевого адресата.
«Точно так же, как люди, считающие, что цель и назначение пищи есть наслаждение, не могут узнать настоящего смысла еды, так и люди, считающие целью искусства наслаждение, не могут узнать его смысла и назначения, потому что они приписывают деятельности, имеющей свой смысл в связи с другими явлениями жизни, ложную и исключительную цель наслаждения. Люди поняли, что смысл еды есть питание тела, только тогда, когда они перестали считать целью этой деятельности наслаждение. То же и с искусством. Люди поймут смысл искусства только тогда, когда перестанут считать целью этой деятельности красоту, т. е. наслаждение» (30: 61).
С. Бэр [Baehr 1976] прослеживает некоторые параллели, хотя и под девизом «жизнь есть искусство».
Если Позднышев – сифилитик, это еще один повод к тому, чтобы он считал Трухачевского соперником и двойником: «Брат Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. И вот он, его брат, нашел мою жену» (27: 66).
Толстой признает, что наука – «другая, столь же важная духовная человеческая деятельность» (30: 186).
«Так он жил, не зная и не видя возможности знать, что он такое и для чего живет на свете, и мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся самоубийства, и вместе с тем твердо прокладывая свою особенную, определенную дорогу в жизни» (19: 373).
К сожалению, целые книги, где рассматриваются отношения между искусством и наукой в трактате Толстого, игнорируют этот поразительный пассаж: см., например, [Silbajoris 1990: 126–133; Zurek 1996: 322–323; Ломунов 1972: 14–65; Diffey 1985].
Л. Кнапп [Knapp 1991: 25–42] ставит Толстого по одну сторону баррикад с Платоном («Государство») против Шопенгауэра и Ницше в несколько другом контексте: «В “Крейцеровой сонате” Толстой косвенно отвечает на музыкальную теорию, преобладавшую в его время, теорию, в которой ключевое место занимал Бетховен. Музыка Бетховена послужила основанием для утверждения Шопенгауэра, что музыка – это сила, которая бросает вызов разуму, что это язык чувства и страсти, что она представляет волю напрямую, не прибегая к идеям или к языку, что она воздействует непосредственно на эмоции… Какая бы критика музыки Бетховена ни звучала в “Крейцеровой сонате”, она становится, таким образом, опровержением музыкальной теории Шопенгауэра и призывом к тому, чтобы музыка оставалась ”неэмансипированной” от языка» [Knapp 1991: 37].
Л. Витгенштейн. «Философские исследования» IV [Витгенштейн 1994,1:263].
Дж. Робинсон [Robinson 1995: 53–74] пытается доказать, что это эмоция, в то время как Р. Лазарус утверждает: «Я не считаю дрожь эмоцией. Эмоция есть результат оценочного восприятия… Дрожь скорее следует рассматривать как примитивный нервно-рефлекторный процесс» [Lazarus 1982: 1023].
Подробный анализ ревности см. в [Goldie 2000, гл. 8]. Рассмотрение ревности: [Goldie 2011:119–137]. См. также [Taylor 1985]. Описание эмоций с диспозиционной точки зрения см. в [Wollheim 1999].
Т. Диксон [Dixon 2003] приводит обширный экскурс в историю определений и теорий эмоций и предполагает, что прежние разграничения между страстями, привязанностями, желаниями и чувствами более плодотворны для исследований и теоретизирования, чем единое определение эмоции.
«Главные» здесь не означает «самые существенные», а скорее указывает на относительную плотность сходств в соответствии с понятием семейного