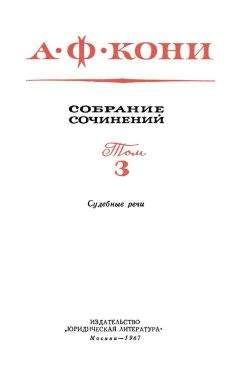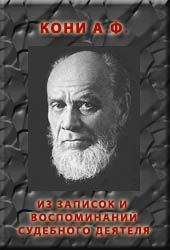Для охранения технической безопасности поезда он был снабжен автоматическим тормозом Вестингауза. При переезде от Севастополя до Лозовой этот прибор действовал не вполне исправно и два раза самопроизвольно затормаживал поезд. Вагоны поезда имели, кроме того, за исключением двух самых больших и тяжелых, ручные тормоза, но торможение ими производилось исключительно по распоряжению начальства в случае порчи автоматического тормоза. Для внутренних служебных сношений в поезде был устроен телефон, но после переделки его в Севастополе действовал плохо, и агенты поезда не могли привыкнуть им пользоваться, сообщение же с машинистами на ходу поезда, за отсутствием для этого каких-либо приспособлений, совершалось с риском и затруднениями, путем перелезания на тендер паровоза из ближайшего к нему вагона и знаков, подаваемых маханьем рук.
Перед самым отходом поезда из Тарановки манометр прибора Вестингауза не стал показывать надлежащего для торможения количества атмосфер, а кран тормоза на тендере перестал действовать вследствие засорения. Тем не менее поезд был отправлен, ввиду поданного уже сигнала к отъезду, с недействующим автоматическим тормозом. Обер-машинисты не давали затем установленных свистков на уклонах для действия ручными тормозами, и поезд двигался при открытых регуляторах, имея в своем составе неисправный в ходовых частях вагон министра путей сообщения.
В 1 час 14 минут пополудни, на переломе уклона пяти-сажеиной насыпи 277 версты между станциями Тарановка и Борки, при скорости движения около 60 верст в час, произошло крушение поезда. Уклон этот, составляя 0,011 сажени, оказался значительно превышающим дозволенный уставом общества предел в 0,008 сажени, а насыпь, подвергаясь, по объяснению путевой прислуги, постепенному оседанию и требуя усиленной досыпки балласта, еще весной давала трещины и осадки, вызвавшие в то время «предупреждения» машинистам о тихой езде.
Вместе с тем следствием было выяснено, что второй путь на 277 версте Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, на которой произошло крушение, был уложен в конце лета 1886 года весьма спешно и открыт для движения с нарушением установленных правил, на полубалласте, причем работа по укладке шпал и рельсов производилась столь торопливо, что их в день укладывалось не менее 400 сажен, а первая встреча поездов сопровождалась поломкою буферных фонарей. К осени 1888 года восемь шпал — шесть на месте крушения и две несколько выше — на 277 версте оказались уже настолько негодными, что в начале октября, незадолго до следования поезда чрезвычайной важности, они были вынуты из пути дорожным мастером и старшим рабочим и заменены шпалами, взятыми с 276 версты при сплошной ее перестилке, каковая производится уже по истечении сроков службы шпал.
Характерными для оценки всех беспорядков и неправильностей в составе и движении поезда явились показания Витте и Васильева.
В этом отношении начало ноября ознаменовалось для меня ближайшим знакомством с будущим выдающимся человеком русского государственного управления, двусмысленная песенка которого не спета окончательно и до настоящего времени, когда убийство Плеве снова заставляет многих видеть спасение России в призвании ко власти человека, который во время крушения был лишь простым управляющим Юго-Западными железными дорогами. Прежде я его видел лишь в комиссии по начертанию общего устава русских железных дорог, под председательством графа Баранова, куда он был призван генералом Анненковым как эксперт по части железнодорожного движения. Он держал себя очень скромно в заседаниях, но не раз после того, как Анненков запутывался в своих предложениях без сказуемого из бесконечных «так сказать», приходил к нему на помощь с веским и дельным разъяснением вопроса. Хотя уже в это время он был автором интересной книги «Принципы железнодорожных тарифов», но злополучный хлопотун и расточитель, окончивший так трагически жизнь самоубийством среди раззолоченной нищеты, Анненков относился к нему несколько свысока. Затем я потерял его из вида. В конце октября из Киева были доставлены сведения, что при передаче потерпевшего впоследствии крушение поезда в Ковеле Витте и главный инженер Юго-Западных дорог Васильев предупреждали министра путей сообщения о невозможном составе и вредной скорости поезда. Я предложил Марки вызвать Витте. Третьего ноября он явился в камеру прокурора судебной палаты, и Марки приступил к допросу. Когда я пришел на допрос, Дублянский заявил мне, что Витте настойчиво просил меня выслушать его до дачи показания. Я вышел к Витте из кабинета прокурора палаты и пригласил его сесть в одном из уголков канцелярии. Но, крайне встревоженный чем-то, с холодными и дрожащими руками, Витте сказал мне вполголоса, что убедительно просит меня выслушать его наедине. На мой вопрос: «Какие же могут быть секреты между нами?» — он снова, видимо, волнуясь, повторил свою просьбу. Тогда я пригласил его в кабинет старшего председателя де Росси, и здесь между нами произошел следующий разговор: «Я вызван, конечно, за тем, — сказал Витте, — чтобы дать показания о тех объяснениях, которые я имел по поводу неправильности императорского поезда». — «Да, нам сообщено, что вы указывали министру и его приближенным на крайнюю опасность поезда и возможность его крушения». — «Да, это было так. Но, во имя нашей общей работы в комиссии и рассчитывая на вашу любезность, я прошу вас войти в мое положение. Мне предстоит очень важное назначение, зависящее от министров финансов и путей сообщения, которым определится вся моя будущая служебная карьера. Мне не только крайне неудобно, но и совершенно невозможно восстановлять против себя Вышнеградского или Посьета. Это может разрушить всю созревшую комбинацию. Я не знаю, что делать, прошу у Вас дружеского совета. Скажите, как выйти из этого положения? Я решительно не могу рассказать всего, что мне известно». При этом он чрезвычайно волновался, жестикулировал красивыми руками с длинными пальцами и старался не глядеть на меня своими умными глазами, раза два оглянувшись на дверь. «Какой же совет могу я вам дать? Вы вызваны, как свидетель, по делу первостепенной важности и по закону и совести обязаны дать вполне правдивые показания, ничего не утаивая. Вам остается это сделать тем более, что нам известна сущность этого показания из киевского сообщения. Я понимаю трудность вашего положения, но она существует часто по отношению к тому или другому свидетелю, которому приходится жертвовать собственными выгодами, удобствами и спокойствием ввиду интересов правосудия. Когда дело дойдет до суда, вам придется стать на перекрестный допрос, и то, о чем вы умолчите теперь, будет «вытянуто» из вас совместными вопросами сторон, и тогда вы можете оказаться не только в неловком, но даже в постыдном положении. Представьте себе хотя бы лишь то, что мы вызовем свидетелем кого-нибудь, кому вы, не ожидая крушения, сообщали свои сомнения и разговоры. Вас могут публично поставить на очную ставку. Поэтому единственный совет — говорите всю правду». — «Но ведь это значит, что я должен говорить против Посьета и создать из него себе врага!» — сказал Витте, тяжело дыша и меняясь в лице. «Может быть и даже весьма вероятно, а все-таки другого исхода нет». — «Я вас все-таки очень, очень прошу, нельзя ли что-нибудь сделать, помочь мне». Разговор принимал весьма тягостный оборот. «Ведь про меня могут сказать, что я явился доносчиком на Посьета». — И он поник головой. «Вы явились не сами, а по вызову судебной власти, и в этом отношении я постараюсь устранить от вас такое несправедливое обвинение даже теперь, не ожидая возможности сделать это в судебных прениях. При старом следственном порядке свидетелям предлагались вопросные пункты. Применительно к этому я предложу судебному следователю предоставить вам самому записать свое показание по главным пунктам допроса, причем вы можете начинать каждый пункт ссылкой на предложенный вам вопрос, из чего будет видно, что не вы рассказывали по собственному почину те или другие обстоятельства, а были вынуждены к тому категорическою формою предложенных вам вопросов, для которых у следователя имелся уже предварительно собранный материал; с этого показания вы можете получить копию, и это все, что я могу сделать». — Я встал, и Витте, вздохнув, последовал за мной. Марки очень удивился моему предложению, но исполнил мое желание, условившись со мною относительно содержания вопросов, и потом, неоднократно проходя через камеру прокурора судебной палаты, я видел Витте сидящим за одним из столов и пишущим свое показание против каждого из вопросов, предложенных по временам подходившим к столу звероподобным Марки.
Показание Витте было дано очень искусно. Ссылаясь на возможность ошибок с своей стороны, вследствие субъективности своих взглядов, открещиваясь от невыгодных или опасных для министра путей сообщения предположений и утверждений и всячески выгораживая Посьета (которому в действительности он передал в Ковеле через Шернваля о крайней неправильности состава и скорости поезда, грозящей несчастьем, на что получил от отходившего ко сну министра через того Шернваля совет написать о том в департамент железных дорог), Витте тем не менее не мог не указать, хотя и в очень осторожных выражениях, на такие стороны в снаряжении и движении поездов чрезвычайной важности, которые получили огромное значение для дальнейшей экспертизы.