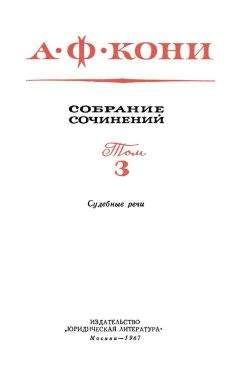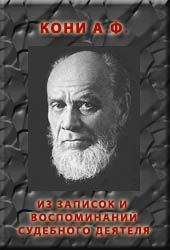Сенат признал такое поведение председателя непозволительным и в установленном порядке предал его суду за бездействие власти по отношению к защитнику и за совершение при отправлении должности непристойного поступка (2 часть 347 статьи Уложения о наказаниях). Но этим дело не кончилось. Судебная палата нашла, однако, в действиях обвиняемого лишь простое упущение, выразившееся в некотором недостатке внимания по отношению к допущенному им «игривому» (?) выражению, не заключающему в себе ничего непристойного, так как слова о «науке страсти нежней» заимствованы из «Евгения Онегина» — романа, читаемого в институтах благородных девиц. Этот, в свою очередь, «игривый» приговор не был, однако, опротестован прокуратурой. Сенат, рассмотрев в порядке надзора действия палаты и признав ее рассуждения явно неосновательными и ошибочными, сделал замечание самой судебной палате, а о бездействии прокурорского надзора передал на усмотрение министра юстиции. Вообще председатель в своем руководящем напутствии никогда не должен забывать второй части уже приведенной мною цитаты из Пушкина: «Блажен, кто в сердце усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею» *. Еще недавно председателем по делу генерала Левашева, обвинявшегося в убийстве земского начальника Шпанова под влиянием жестокого оскорбления, нанесенного ему последним, был дан пример совершенного непонимания этого золотого правила, и по отношению к подсудимому, не имеющему права возражать и возможности защищаться, в напутствии был употреблен тон и способ выражений, недопустимый в устах председателя, понимающего свои обязанности.
Постановка вопросов присяжным заседателям составляет одну из важнейших задач суда. От умелого ее выполнения в большинстве случаев зависит правильный ответ присяжных. Поэтому закон дает в ряде статей подробные указания о содержании и форме вопросов, причем требует, чтобы предлагаемые присяжным вопросы составлялись в общеупотребительных выражениях, а не в виде принятых законом определений. Нельзя, однако, сказать, чтобы от этих правил не делались довольно частые отступления, ставящие иногда присяжных в тупик или заставляющие их отвечать на не понятные им юридические термины, недостаточно разъясненные председателем; к тому же эти вопросы то страдают чрезмерной краткостью, допускающей произвольные толкования, то содержат в себе такое изложение фактической стороны события преступления, со включением в него улик и доказательств, которое затемняет перед присяжными смысл ожидаемого от них ответа. К сожалению, я не нахожу возможным привести здесь редакции некоторых вопросов, предложенных по делам, разбираемым при закрытых дверях. В них преступление описывалось с такими ненужными подробностями и перечислением улик судебномедицинского характера, что, смешивая существенное с несущественным и случайным, рассеивая, а не концентрируя внимание присяжных, эти вопросы могли бы зато доставить лакомое развлечение любителям фривольного чтения. Один из таких вопросов по делу о покушении на изнасилование, представляя массу вводных и придаточных предложений, занимал три страницы убористого письма! Наряду с этим требование общеупотребительных выражений понимается нашей судебной практикой весьма своеобразно, и это понимание со своей стороны влечет за собой добросовестное непонимание присяжными, о каких именно признаках преступления спрашивает их суд. Так, вследствие указаний Сената признаются вполне понятными для присяжных, хотя бы и состоящих из крестьян, выражения: «порицание», «насилие», «оскорбление», «тайное похищение», и в то же время считаются не общепонятными выражения: «приготовиться», «ошибка», «умышленно», «истязания», «растрата» (вместо этого рекомендовано понятное слово: «израсходование»), «намерение», «сопротивление», «грабеж» и даже «открытое похищение» и т. д. Такое едва ли на чем-нибудь основанное разделение слов богатого и изобразительного русского языка на «понятные» и «непонятные» для народа, к сожалению, нашло себе место и в новом Уголовном уложении, где, например, в 550 статье говорится о повреждении рыбы в чужих водах посредством отравления воды, причем в объяснениях к ней проводится мысль, что это повреждение может вызвать истребление рыбы. А в проекте Уложения, очевидно, признаваемое «непонятным» народу слово «поджог» было заменено выражением повреждение огнем, которое особое совещание при Государственном совете заменило словами повреждение поджогом, тоже считая, что повреждение заключает в себе и понятие истребления. В своих по меньшей мере оригинальных рассуждениях особое совещание, вопреки ясному смыслу русского языка, нашло, что «повреждение чужой вещи проявляется не только в форме ее порчи, но и в истреблении, которое уже заключается в понятии повреждения, имеющем много степеней, начиная с самого незначительного изменения, имеющего влияние лишь на существо или назначение вещи, и кончая полным ее истреблением. Следует при этом принять также во внимание, что, строго говоря, в природе ничто не уничтожается и не истребляется, а только трансформируется». Дозволительно усомниться, чтобы обыкновенный русский присяжный заседатель, не изучивший книги Молешотта «Kreislauf des Lebens» *, мог ясно представить себе, что сгоревший дотла дом, скирда, изгородь и т. п. не уничтожены, а лишь повреждены или трансформированы или что отбитие у статуи пальца или у бюста кончика носа или разбитие целого барельефа на мелкие осколки одинаково покрываются словом повреждение.
За состоявшеюся отменой широкого права немотивированного отвода присяжных указывать вред такого права сторон не приходится. Но следует заметить, что в прежние годы благодаря ему не только составлялось более или менее тенденциозное, с точки зрения прокурора или защитника, присутствие присяжных по делу, но очень часто совершенно исключался наиболее подходящий для суда элемент в лице развитых и образованных людей, если предстоял процесс о нарушениях из области банковой, акционерной или служебной деятельности, неясной в своих тонкостях и специальных условиях для простых людей. Это стремление к союзу с предполагаемым невежеством и темнотой даже не умерялось коррективом мотивировки, как это делается в Англии, или провозглашением имен отводимых, как это существует в Германии. В особенности право прокурора вычеркивать из списка присяжных шесть человек представлялось мне всегда несогласным с ролью государственного обвинителя, который должен стоять выше мелочных заподозриваний и не подбирать ни судей, ни законы, употребляя выражение великого Петра, «масть к масти». Поэтому в бытность мою прокурором я никогда не отводил никого из присяжных заседателей в надежде, что правое дело само постоит за себя без ненужного оскорбления отдельных присяжных заседателей, которые всегда легко могли догадаться о последовавшем отводе вследствие совершенно произвольного сомнения в их беспристрастии. Этого же образа действий рекомендовал я держаться и моим товарищам, и хотя отсутствие прокурорских отводов и вызывало недоумение у высших должностных лиц судебного ведомства, но я не слышал ни одного заявления моих сослуживцев о том, что оправдательный приговор последовал вследствие предполагаемого вредного влияния того или другого из неотведенных присяжных.
Нужно ли затем говорить о том, какие результаты вызывало до последнего времени сокрытие от присяжных наказания, грозящего подсудимому, — эта своеобразная игра с ними в прятки? Конечно, присяжные, исполняя свою обязанность, должны рассматривать обстоятельства, которыми было окружено и сопровождалось преступление, так сказать, смотря назад от события преступления, но нельзя требовать от них, чтобы они не смотрели и вперед, т. е. на то, что последует с подсудимым, которого они судят. Если они имели право знакомиться с личностью обвиняемого, то, конечно, они должны были иметь и право ознакомиться с последствиями их приговора для подсудимого. На практике после первых двух-трех дел о кражах присяжные уже знали, какое наказание постигнет осужденного ими, но по целому ряду других дел им было известно лишь то, что их суду подлежат преступления, сопряженные с лишением прав и иногда с очень суровыми карами, а о том, какова эта кара, они составляли себе представление нередко из разъяснений какого-нибудь случайно находившегося в их среде самозванного юриста, считающего себя знатоком уголовных законов, потому что он служил в уездном суде или полицейском управлении. Мне пришлось председательствовать в восьмидесятых годах по делу сына купца-миллионера, известного своим уголовным процессом. Состоя в связи с одной женщиной, молодой человек ожидал, вследствие заявления ее и приглашенной акушерки, вскоре сделаться отцом. В один прекрасный день он был приглашен к умирающей родильнице, которая подарила ему сына. Уступая ее желанию, тронутый ее судьбой и рождением ребенка, который, по словам акушерки, был похож на него, как две капли воды, он дал ей 6 тысяч рублей для того, чтобы успокоить ее, быть может, в последние минуты ее жизни, за сына. Через три дня акушерка пришла к нему и сказала, что с такой мошенницей, как недавняя родильница, дела иметь не желает и щадить ее не хочет, так как будущая родильница обещала 3 тысячи рублей, а дала за труды только 300 рублей. При этом она объяснила, что беременность была притворная, «гуттаперчевая», а ребенок был взят напрокат. Таким образом возникло дело о шантаже, но так как наш закон шантажа не знает до сих пор, то по аналогии приходилось применить постановления о мошенничестве. Подсудимые сознались, а известный адвокат Александров просил только о снисхождении, но присяжные после четверти часа совещания вынесли оправдательный приговор. И, когда я в разговоре со старшиной присяжных указал на трудно объяснимый и странный результат их совещаний, он мне сказал: «Помилуйте, господин председатель, кабы за это тюрьма была, то мы бы с дорогой душой обвинили, а ведь за это каторжные работы». Когда же я ему указал, что подсудимым следовало наказание от 1 до 3 месяцев тюремного заключения, то старшина пришел в крайнее изумление, сожалея, что они впали в такую ошибку вследствие того, что в составе присяжных был отставной чиновник, который их уверил, что за это преступление непременно должны быть назначены каторжные работы. Это незнание о наказании особенно бывало вредно по делам о преступлениях, кончающихся лишением жизни. Есть между этими преступлениями такие, которые вовсе не заслуживают и не влекут по закону высшего по строгости наказания — каторжных работ. Таково, например, убийство в драке, нанесение побоев без умысла на убийство, но вызвавшее, однако, смерть, убийство новорожденного урода, не имеющего человеческого образа, и т. п. Между тем все эти дела подсудны присяжным заседателям. У них являлась мысль: тут убийство, смерть, а раз смерть, конечно, будет и самое строгое наказание — каторга. Им никто не имел права объяснить, что тут о каторге нет и помину, что тут наказание гораздо более слабое. Защитник не имел права упоминать о наказании, но иногда он говорил горячую речь, в конце которой его пафос увеличивался, и речь кончалась обыкновенно словами: «Господа присяжные заседатели* я надеюсь, что ваш приговор не заставит подсудимого в тундрах Сибири, под холодным полярным кругом, в снегах и стуже, вспоминать нынешний роковой день». Председатель восклицал: «Вы не имеете права говорить о наказании!» Защитник отвечал: «Я кончил». Затем подсудимый говорил последнее слово. Но как удержать простого человека, а их большинство, от того, чтобы он не сказал: «Помилуйте, кормильцы, куда же вы меня теперь в Сибирь: у меня жена, дети»… Недаром в 1895 году съездом старших председателей и прокуроров судебных палат большинством 19 против 1 было признано необходимым в целях правосудия допустить оглашение перед присяжными наказания, которое грозит обвиняемому. Однако это пожелание осуществлено лишь через 15 лет…