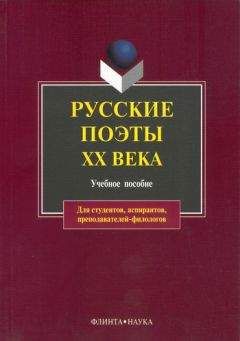Одно из таких первородных свойств до сих пор остается предметом непрекращающихся споров. Противники авторской песни заявляют о самоценности поэтического слова и о ненужности музыкальных «подпорок» к нему, защитники в ответ предлагают им попробовать добиться такой же гармонии слова и мелодии, как у бардов; противники углубляются в поэтику и обличают упрощенный синтаксис и ослабленную метафоричность авторской песни, защитники углубляются в историю и упоминают об изначальном синкретизме лирики.
Здесь самое время вспомнить платоновские слова о новом ис-кусстве – «неискусстве». И привести слова современного поэта: «Лучшие из бардов и не песни-то вовсе писали. И не стихи. И не музыку. Они себя писали. Писали так и теми средствами, какими им было удобней, сподручней. (…) Нужно говорить о бардах как о явлении абсолютно самостоятельном, внелитературном. Это один из жанров души» (Е. Бершин). Оставив в стороне нефилологич-ность рассуждения, отметим, что искренность, непосредственность, отсутствие актерского начала и есть, действительно, главный, исходный принцип авторской песни. Способ ее существования.
Закономерен вопрос: а как же «ролевые» песни – даже целые «циклы»! – Галича, Высоцкого и других? Действительно, Высоцкий пел от лица шофера, спортсмена, психически больного; утонченный интеллигент Галич перевоплощался в недалекого Клима Петровича Коломийцева – профсоюзного активиста… Но, как ни странно на первый взгляд, это даже и не «исключения из правила», а просто иной уровень той же закономерности. Отсутствие актерства на этом уровне есть отсутствие отчужденности. «Я» автора здесь расширяется и приобщается к другому «я», вбирая его и делая частью себя. От внимательного слушателя-читателя не ускользнет тот факт, что и Галич, и Высоцкий понимают своих незадачливых героев, сострадают им, ощущая общность, по большому счету родство с ними в несвободном и абсурдном мире. Впрочем, анализируемое свойство – общее для всего истинного искусства. Просто в авторской песне такое «вбирание другой жизни» в силу законов жанра более резко, более непосредственно ощущается воспринимающим.
В бардовской песне принципиально иное, нежели в эстрадной, значение имеет авторская интонация, манера исполнения – вообще все специфические проявления этого индивидуального начала. «Я», привнесенное Окуджавой и другими первыми бардами в современную песню, впервые, как писал А. Городницкий, «после долгих лет маршевых и лирических песен казарменного «социализма». (…) Так началась революционная эпоха авторской песни, в которой обрела свой голос интеллигенция. Оттого-то столь важны, столь ревностно лелеются любителями жанра и кажутся принципиально – «этически» – не воспроизводимыми кем-то другим «мелочи» авторской манеры, и неожиданная порой сдержанность, «разговорность» Визбора – даже в самые лиричные моменты, и «яростная» фонетика Высоцкого («Свежий ветер избранных пья-ниллл…»), и – если заглянуть в сегодня – особая мягкость Олега Митяева – не только в тембре голоса, но и в каком-то «растворяющем» отставании словесной фразы от музыкальной…
Конечно, все это не ощущалось бы столь ярко, не будь объединяющего, цементирующего свойства авторской песни, – того, что Ада Якушева определила как «результат работы личности над собой». Разумеется, формула эта не выделяет наш жанр из искусства вообще, а лишь заостряет все то же отличие от песни официальной, официозной, которую по аналогии можно было бы определить как результат работы по созданию мира обезличенных, суррогатных чувств («Вода, вода… Кругом – вода…» – известная песенная строчка из 60-х метафорически выражает эту тенденцию).
Официальная критика поспешила тогда снисходительно назвать новую песню «самодеятельной», отказав ей тем самым в профессионализме^ На самом же деле любое вновь открывшееся пространство в искусстве осваивается, «окультуривается» и профессионалами, и дилетантами совместно. Много дилетантов, замкнувшихся в «походной» тематике и достаточно примитивной поэтике, дало и движение КСП. Но «территория осваивалась», и лучшие из бардов, талантливо утверждая самоценность человеческой личности и делая это, как правило, максимально демократичными средствами, стали истинными профессионалами. А некоторые из них – Б. Окуджава, Н. Матвеева, А. Галич – были замечательными художниками слова и до вхождения в пространство нового для себя жанра…
Ведущая стихия авторской песни шестидесятых, безусловно, не музыкальная, а словесная. Раскрепощение, которое испытало все искусство в годы «оттепели» (не только поэзия в составе литературы, но и живопись, и театр), – раскрепощение это коснулось в первую очередь художественного слова. Освобождение этой стихии происходило в двух направлениях: к слову, несущему правду, и к слову, богатому звуком, образом и смыслом. Направления эти не были противоположны друг другу. Мы увидим проявления их обоих, обратившись к творчеству одного из наиболее значительных бардов того периода.
Но прежде надо сказать, что в тематике авторской песни в 60-е годы явно обозначились, по крайней мере, три акцента: лирически-интимный, походно-романтический и социально-критический. В отличие от большинства авторов-исполнителей, Александр Галич, о котором пойдет речь, был певцом почти исключительно «третьего варианта».
В начале шестидесятых Галич поразил всех, кто его знал. А знали его многие. Сорокалетний драматург, сценарист и поэт-песенник, чьи произведения подробно перечислялись в Краткой Литературной Энциклопедии (да и как было пройти мимо, скажем, «Вас вызывает Таймыр» или «Верных друзей»!), вдруг с головой ушел в песню. Но вовсе не ту, что сочинял раньше:
Все, что с детства любим к храним,
Никогда врагу не отдадим!
Лучше сложим головы в бою,
Защищая Родину свою!..
Нет, слово Галича стало теперь совсем другим… Можно, видимо, сказать, что в его судьбе был не один, а два «удара током»: первый, «метафорический», вдохнул в него на рубеже шестидесятых новую жизнь; второй, физический, в 1977 из жизни увел. Как же несоизмеримы вышеприведенные строки, написанные до, с появившимися после и (если отвлечься от сюжета «Гусарской песни»), кажется, содержащими ответ и вызов «тому» себе:
Но оставь, художник, вымысел,
Нас в герои не крои,
Нам не знамя жребий вывесил,
Носовой платок в крови…
Редчайший случай в нашей словесности: благополучный литератор с именем и регалиями перевоплощается в «свободного художника», поэта андеграунда. И вот художественный результат: на месте дежурного ура-патриотизма – оплаченная мучительными раздумьями трагическая ирония, беспросветно-банальные рифмы меняются на счастливо найденные свежие ассонансы и обновленные точные созвучия, стандартный «суповой набор» лозунгов – на богатейшую ассоциациями и со-противопоставлениями пару «знамя» – «носовой платок в крови»…
Освобождаясь под пером «нового Галича» из идейно-эстетической клетки, песенное слово давало голос тем персонажам русской жизни, которые до сих пор были его лишены. Сама по себе «сниженная» песенная стилистика не была абсолютной новостью в аудитории слушателей Галича[11], однако именно герои его песен (как и песен В. Высоцкого) впервые передали средствами музыкальной лирики абсурд советской жизни.
Вот, например, сквозной герой известной песенной трилогии Клим Петрович Коломийцев – честный работник «колючепрово-лочного» цеха и профсоюзный активист («в зачтениях – мастак», как он сам себя характеризует). Клим Петрович получает листок со «своей» речью и едет выступать в ДК, где уже «идет заутреня / В защиту мира». Но – «сучий сын, пижон-порученец, / Перепутал в суматохе бумажки», – и вот с трибуны «неспешно» и «сурово» звучит «речь»…
Израильская, – говорю, – военщина
Известна всему свету!
Как мать, – говорю, – и как женщина
Требую их к ответу!
Который год я вдовая —
Все счастье – мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как женщина!..
Абсурдность ситуации, между тем, не в самом по себе факте «перепутанных бумажек». Это – лишь первая ступень. Апофеоз наступает после того, как Клим («вдова») на мгновение растерялся: «продолжать или кончить»?
В зале вроде ни смешочков, ни вою…
Первый тоже, вижу, рожи не корчит,
А кивает мне своей головою!
Ну, и дал я тут галопом по фразам
(Слава Богу, завсегда все и то же),
А как кончил —
Все захлопали разом,
Первый тоже – лично – сдвинул ладоши.
Документальна ли эта анекдотическая ситуация – слушателя не интересовало, хотя его не могла не подкупать способность Галича перевоплощаться, естественность интонации, фонетическая точность («У жене, моей спросите, у Даши, / У сестре ее спросите, у Клавки») и т. п.[12] Слушатель не мог не чувствовать, как за первым, комическим, слоем неумолимо проступает второй – жестко-сатирический. Личность в общественном сознании настолько обесценилась, что индивидуальные ее границы неразличимы – «не помогает» даже половой признак! А главное – совершенно есте ственно, как ни в чем не бывало, звучит и воспринимается противопоставление «счастье – мимо» и «дело мира» – и первое, безусловно, «компенсируется» вторым.