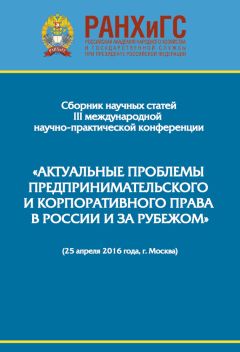Ознакомительная версия.
Булгаков находит недостающее звено, и находит его именно в ивановском ознаменовательном символизме. Для обозначения связи между именуемой «точкой» бытия и субъектом именовательного суждения (местоимением) Булгаков счел нужным применить одиозное для него в других случаях понятие «ознаменования» (ФиБ, 55). При этом за местоименным субъектом суждения, лишь ознаменовывающим (то есть не именующим и, заметим, не объективирующим – местоимение не объективация, а безотносительный к ней указующий, пусть и мистический, жест) «точку» бытия, сохраняется тем не менее статус символа. Имя, таким образом, имеет у Булгакова в его окончательной формулировке как бы двухуровневую, а в определенном смысле и двойственную, символическую структуру: ознаменовательный символ плюс его предикация символом абсолютным.
«Двойственной» оказывается, соответственно, и рецепция Булгаковым ивановских идей. Всё это не поддается простому толкованию. Двойственная до антиномичности символическая структура имени в имяславии (у Булгакова этот момент выражен почти схематически отчетливо, но он свойствен в своих модифицированных вариантах и другим имяславским версиям) содержательно насыщена подразумеваемым здесь оригинально связанным клубком интеллектуальных идей, в том числе и прямо лингвистических. Этот имяславский «сплав идей» образовался не сразу, и во многом – как, видимо, следует предполагать – под влиянием открытого или подспудного диалога с Ивановым.
Самым, конечно, многозначно весомым (а для многих, в том числе современных, оппонентов имяславия достаточно неожиданным) моментом в булгаковской формуле имени является выдвижение на авансцену символизма понятия
предикативности. В самом деле: и имяславие и ивановский символизм, настаивавшие на принципиальной возможности прорыва в «высшую сферу», естественней воспринимать (уж коли речь зашла о лингвистически окрашенных понятиях) под знаком
референции – ведь именно такова, с лингвистической точки зрения, синтаксическая функция имени и, соответственно, тех особых (не именующих, но выполняющих именовательную функцию) семантических процессов, которые мыслились Ивановым. Выдвижение на авансцену предикативности в рамках принципиально ориентированных на референцию концепций действительно составляет их главную оригинальность. Естественно, любое контекстуальное сближение референции и предикативности предполагает внесение изменений в традиционное понимание этих терминов. Что же стояло за этой идеей в имяславии?
Прежде всего необходимо специально оговорить, что со стороны Булгакова здесь не было никакой личной инновации. Распространенная точка зрения, что символизм в любых его вариациях (будь то Иванов, Белый, Флоренский, Булгаков или Лосев) по самой своей природе основывался исключительно на категориях сущности и субстанции и потому «остановился» на имени (и его как бы прямом корреляте – символе), «не дойдя» или даже «не заметив» предиката, не только неточно, но в корне неверно. В пестром поле русского символизма не было ни одного достаточно крупного теоретика, который так или иначе не затронул бы проблему предикативности, более того – не поставил ее в самый эпицентр рассуждений. Другое дело, что понимание самой предикативности не могло не претерпевать при этом существенных изменений. Тема предикативности «обкатывалась» символистами в ее разных обличиях на всем протяжении 1890-х и 1910-х годов, и новшество имяславия, содержательно инициированное, вероятно, Флоренским, состояло не в постановке темы, а в ее аранжировке. Схематически эту аранжировку можно выразить так: как имя венчает в имяславии символ, так и само имя, в свою очередь, венчается в имяславии предикативностью. Связь между трансцендентным и имманентным, сущностью и явлением, ноуменальным и феноменальным, символизируемым и символизирующим есть в имяславии, как уже говорилось, именование, а именование есть в своей глубине не что иное, как предикация (то есть, например, явление здесь предлагается понимать как предикат сущности и т. д.). И это не внешнее, данное со стороны определение имяславия, но его сознательное второе самоназвание – в тех, конечно, контекстах, где оно требовалось. Так, по самоопределению Булгакова, его концепция – в отличие в том числе и от философии Платона (! – Л. Г.) – характеризуется, как он пишет, «специально предикативной» постановкой вопроса о языке (ФиБ, 74).
Введение предикативного измерения еще более обостряло ситуацию взаимоотношений между имяславием и Ивановым. Вполне вероятно, что и тут, так же, как в случае с именем и символом, роль Иванова в становлении интеллектуальных версий имяславия оказалась не из второстепенных, во всяком случае как раз предикативность, хотя и не всегда именно в этом терминологическом облачении, была в центре – или глубине – редких, но весьма показательных упоминаний ивановской позиции в булгаковских текстах 10-х годов, то есть текстах, еще только подготавливающих окончательное концептуальное оформление его имяславской версии в «Философии имени». Сопоставление ивановской позиции именно с булгаковской версией имяславия тем и удобно, что они развивались параллельно и «зная друг о друге» и что Булгаков открыто подвел черту под этим диалогом в своей книге, систематизирующей имяславские идеи в интересующей нас непосредственно лингвистической форме. Тексты Флоренского уклончивы в лингвистическом и систематическом отношении, а лосевская концепция, с одной стороны, «моложе» и потому не предоставляет достаточно материала для восстановления событий 90-х и 10-х годов, с другой стороны, она продолжала развиваться и тогда, когда зачинатели имяславской темы в философии по разным причинам уже сошли с дистанции.
Идея предикативности входит в сердцевину ивановской символической философии языка, облачаясь в самые разнообразные языковые одежды. Главная в нашем контексте ивановская словесная и смысловая транскрипция темы предикативности звучит как проблема соотношения символа и мифа. И хотя в текстах самого Иванова нет ни достаточно развернутых высказываний по специально лингвистическим аспектам дела, ни персональных именных реплик по данному поводу в сторону Булгакова, можно достаточно уверенно предполагать, что между ними на протяжении всех 1910-х годов велась по этому вопросу своего рода косвенная тяжба. Сначала эта тяжба о предикативности велась как бы на ивановской – мифологической – территории (Булгаков не раз печатно признавал приоритет Иванова в области мифологии), затем Булгаков в целях концептуализации и систематизации имяславия ввел эту тему в непосредственно лингвистический контекст и уже, соответственно, в прямом обличье «предикативности» (а не мифа), Иванов же так и оставил предикативную тему в мифологических координатах, хотя в его понимании вопроса произошел, видимо, определенный перелом, который и стал главным катализатором тяжбы с Булгаковым.
Перелом этот может быть датирован 1910– 1911-м годами. В начале 1890-х годов тема предикативности фигурировала в текстах Иванова в виде неразвернутой констатации или почти чисто декларативного тезиса о произрастании мифа из символа, которые в таком случае связаны между собою, согласно этой формулировке Иванова, как дуб и желудь. [11] Этот декларативный тезис «раннего» Иванова коррелировал с известной идеей о взаимообратимости слова и предложения, которая – в ее разных интерпретациях – подробно развивалась и в символизме (Белый), и в имяславии (Флоренский, Булгаков; впоследствии ее подхватил и заново обработал Лосев). Общим предтечей мыслился при этом, в том числе и Ивановым, Ал. Аф. Потебня. Формулировки типа «слово – это свернутое предложение», «предложение – это распустившееся слово» стали обязательными константами имяславских текстов. В конечном счете эта идея закономерно влилась и в понимание самого имени, которое стало толковаться, как мы видели, в качестве свернутого предложения, то есть как включающее предикат именовательное суждение. Естественно, что при таком понимании сознательно сглаживается разница не только между словом и предложением, именем и символом, но и между символом и мифом. Образование мифа в таких смысловых координатах лишается статуса самостоятельной проблемы; она может здесь считаться в принципе решенной, если решен вопрос о слове (имени, символе).
В имяславии так и произошло: тема рождения мифа фактически имманентизировалась в тему рождения Имени. Эта имманентизация, однако, отнюдь не предполагала, конечно, полного растворения мифа с потерей его сущностного ядра в имени, она предполагала другое: включение ядра мифа (а это и есть предикативность) внутрь имени. В этом смысле можно даже говорить, что выбор «поглощающей» и «поглощаемой» сущности между словом и предложением есть в имяславии, как это ни парадоксально звучит для его оппонентов, чисто терминологическая условность. Суть имяславской позиции состоит не в элиминировании предикативности как таковой за счет ее подавления именем, а в переосмыслении сложившегося понимания отношений между субъектом и предикатом суждения, согласно которому субъект и предикат – это принципиально разные синтаксические позиции по их (почти онтологически понимаемым при этом) семантическим и логическим функциям. В имяславии субъект и предикат сохраняют свою языковую (синтаксическую) различимость, но сближаются как раз по онтологически же понимаемой функции. «Предложение тоже именует, а имя тоже предщирует» – эта условно сжатая имяславская идея оспаривает в своем лингвистическом аспекте не синтаксическую различимость субъекта и предиката, а их онтологическое разведение, то есть утверждение принципиально разных типов связи того и другого с «предметом» речи. Имяславие по сути дела стремилось свести эти две принципиально разводимые в лингвистике (и не только, конечно, в ней) категории в некую одну, комплексную и по-новому проблематизированную тему. Так, Булгаков, который в более ранних работах, как мы увидим, проблематизировал миф как таковой, не ввел в свою «Философию имени» никаких специальных и отдельных рассуждений о мифе; о нем говорится здесь лишь «через запятую» с именем, а имя, напомним, занимает при этом в булгаковском исходном именовательном суждении позицию предиката.
Ознакомительная версия.