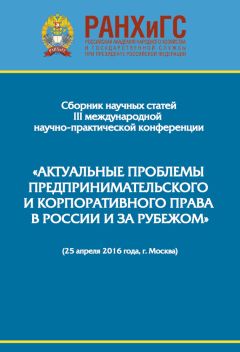Ознакомительная версия.
Речь идет о соотношении онтологического и языкового статуса символа в мифологическом синтетическом суждении. В приведенной выше первой ивановской формулировке мифа субъект и предикат суждения «знаменуют» как бы одно и то же: субъект – это собственно символ, отождествленный здесь с понятием (!), предикат – это тот же символ в его глагольной форме (символ, созерцаемый как движение, динамический модус того же символа). Получается, что в лингвистическом плане предикат здесь в каком-то смысле выводится из субъекта, а не приращивается к нему синтетически, «со стороны», то есть в суждение, принципиально определяемое как синтетическое, вносится ощутимый налет аналитизма. Этот «налет» превратится прямо в аналитизм, конечно, только в том случае, если в самом символе будет специально декларирована словесная или логическая природа, что и имеется в первом определении мифа, где символ дан через дефис с понятием. С другой стороны, в этом же определении символ «описан» и как непосредственный «предмет» созерцания, как само символизируемое в мифологическом высказывании, так что в случае декларации логической или языковой природы символа соответствующие качества должны будут быть перенесены и в сам этот символизируемый «предмет». Вопрос, следовательно, упирается в понимание природы того, из созерцания чего рождается миф, в понимание отношений между этим созерцаемым и языковой плотью символа и мифа. Здесь постепенно и сосредоточилось острие диалога Иванова и имяславцев.
Естественно, что Иванову, не вводившему язык непосредственно в сферу трансцендентного, потребовались уточнения и большая определенность своей позиции. И впоследствии он действительно стал вводить в свои тексты измененные формулировки, модифицированные именно в этом направлении, в частности, следующую (1914): «Миф определяем мы как синтетическое суждение, где подлежащему-символу придан глагольный предикат… Если символ обогащен глагольным сказуемым, он получил жизнь и движение: символизм превращается в мифотворчество. Истинный реалистический символизм, основанный на интуиции высших реальностей, обретает этот принцип жизни и движения (глагол символа или символ-глагол) в самой интуиции, как постижение динамического начала умопостигаемой сущности, как созерцание ее актуальной формы, или, что то же, как созерцание ее мировой действенности и ее мирового действия» (4, 437–438). Платонически окрашенная терминология этого нового определения, явно «кивающая» в сторону имяславцев (о возможности такой адресации говорит и год написания – время активного общения с Флоренским), не мешает Иванову подчеркнуть при этом и специфику своего понимания проблемы. Здесь уже нет «понятия-символа», а значит и ослаблен налет аналитизма; нет здесь и второго интригующего момента – указания на то, что символ самолично является «предметом» созерцания. И символ-субъект, и глагольный предикат (который тоже, согласно данному определению, может мыслиться как имеющий символическую природу) раздельно «обретаются» в интуиции умопостигаемой сущности, то есть и логически, и с точки зрения языковой семантики они здесь разведены Ивановым. Будучи же в аналитическом отношении разведены, они как раз и могут быть синтетически соединены в мифологическом суждении. Природа самой умопостигаемой сущности мыслится в этой обновленной формулировке и не символической, и не языковой – две последние дефиниции полностью отходят в непосредственное владение словесному мифу. [15] Аналитическая (понятийная или семантически-словесная) связь между субъектом и предикатом разрушена, но они продолжают «истекать» из некоего единого лона, из некоего созерцаемого «предмета», «берущегося» (понимаемого) то как субъект суждения, то как глагольный предикат. Субъект и предикат находятся, следовательно, в равных отношениях с символизируемым «предметом» – таково специфически ивановское решение темы.
Как и в имяславии, здесь, таким образом, оспаривается традиционно жесткое, почти онтологическое разведение субъекта и предиката суждения по их функциям: субъект и предикат у Иванова функционально однородны в своих отношениях к «предмету» речи, они равно его референцируют. У имяславцев путь оспаривания традиционного понимания этой категориальной пары аналогичен – там тоже, как уже говорилось, акцентировалась идея функционального сближения субъекта и предиката. Разница же с Ивановым здесь та, что в имяславии субъект и предикат выполняют по отношению к предмету эту, понимаемую как единая (в данном случае – именующая), функцию как бы «поочередно» (речь – это процесс сколь угодно долгого нанизывания предикатов-имен), а у Иванова субъект и предикат выполняют одну и ту же функцию относительно «предмета» как бы «одновременно» (и функция эта – не именование и не, следовательно, объективация, а безобъектная референция). Более того, оригинальность ивановской идеи и в том, что он считал такое «одновременное» выполнение субъектом и предикатом их одинаковой функции условием осуществления мифологического (не именующего) типа референции. По отдельности ни субъект, ни предикат мифологического суждения осуществить требующуюся референцию не в силах. Потому и символ Иванова, хотя он и помещается им в именную позицию субъекта, не имя, – ведь имя, по определению, осуществляет референцию самолично. Потому не только символ-субъект, как говорилось выше, но и предикат мифологического суждения принципиально не объективирует своего референта. Более того: и миф в целом, реально осуществляющий символическую референцию, тем не менее также не объективирует при этом, по Иванову (как мы увидим при специально лингвистической интерпретации ивановских идей), своего референта.
Мы вышли на очередной виток в диалоге Иванова с имяславием – на принципиальную проблему понимания отношений между, с одной стороны, именуемым или референцируемым (референтом) и, с другой стороны, языковым выражением, осуществляющим именование или референцию. Начнем несколько издалека.
Приведенное выше обновленное ивановское определение мифа было, скорее всего, текущей репликой в его длящемся диалоге персонально с Булгаковым. Это определение процитировано из работы «Экскурс о „Бесах“, непосредственно связанной с Булгаковым (в основу Экскурса положена речь, произнесенная в 1914 году по случаю булгаковского доклада в Религиозно-философском обществе под названием „Русская трагедия“). И хотя, если судить по одноименной статье Булгакова и по архивной стенограмме прений, в этом докладе темы о строении словесного мифа могло и не быть (других проблем в этом споре-диалоге Иванова с Булгаковым мы здесь не касаемся), устно они почти наверняка ее обсуждали; во всяком случае, в других своих работах 10-х годов Булгаков неоднократно к этой теме обращался, в том числе, с прямыми упоминаниями имени Иванова.
Так, в рецензии 1916 года на «Борозды и межи» с многозначительным названием «Сны Геи» Булгаков, в целом высоко оценивая (при всех оговорках, связанных со спецификой ивановского подхода, ориентированного, по его мнению, хотя бы модально, на язычество) эвристичность и напор ивановской теории мифа, делает, тем не менее, – как бы мимоходом – существенную, касающуюся самого понятия мифа, оговорку, помещая ее в сноску: «Мне только не кажется плодотворным, – пишет здесь Булгаков, – то новейшее определение мифа, которое дается в „Б. и М“ (152): [16] «Миф есть синтетическое суждение, где сказуемое глагол присоединено к подлежащему символу». Для мифа существенна не эта связь подлежащего со сказуемым, но способ ее установления– непосредственный, недискурсивный». [17] Миф, заключает Булгаков там же, можно определить (на языке Канта) как синтетическое суждение a priori (далее следует ссылка на Введение к «Свету невечернему», где Булгаков подробнее излагает свой подход к мифу – см. ниже).
Здесь много «узелков». Эпитет «новейшее» по отношению к ивановскому определению мифа, хотя оно, как уже говорилось, было введено Ивановым как минимум за шесть лет до написания булгаковской рецензии, несет здесь, по всей видимости, именно тот смысл, что у Иванова, и с булгаковской точки зрения, произошел некий перелом во взглядах на миф – перелом, не устраивающий булгаковскую мысль. В чем же «неплодотворность», по Булгакову, этого переломного ивановского определения?
Речь не могла тогда идти о неприятии понимания мифа как синтетического суждения. Вообще говоря, не было ничего более естественного в то время для мифологически настроенных мыслителей, чем определять миф именно как синтетическое суждение. Так же, во всяком случае вплоть до 1917 года («Свет невечерний»), поступал и сам Булгаков. Однако именно эта естественная напрашиваемость понятия «синтетического суждения» оборачивалась непредсказуемой смысловой многозначностью, заложенной в самом этом понятии, постепенно становившемся в философии и логике все более и более аморфным. Булгакова не удовлетворил смысловой зазор, просвечивающий сквозь ивановское определение мифа как синтетического суждения, и скорее всего – именно тот первичный и еще необработанный налет аналитизма, о котором говорилось выше. Булгаков мог увидеть аналитизм в подчеркивании Ивановым собственно лингвистической согласованности между субъектом и предикатом и в его требовании обязательности глагольной формы предиката – именно это и придает мифу, согласно приведенному булгаковскому суждению, неправомерный «дискурсивный» (что и значит у Булгакова «аналитический») характер. «Аналитизм» в его традиционном понимании исчез, как мы видели, в последующих ивановских определениях мифа, но синтаксическая согласованность и требование глагольности предиката остались.
Ознакомительная версия.