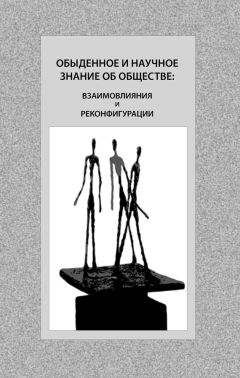Однако шаблонное противопоставление сверхобычной «яркости» и будничной «незаметности» постоянно снимается героем супербоевика, который по собственной воле меняет, если это ему нужно, любые нормативные или предписанные признаки самотождественности — внешность, имя, биографию. «„Получается, ты хочешь выпасть из этой жизни, — расспрашивает Меченого подружка. — Надо быть личностью, очень яркой личностью. А тебе лучше, чтобы тебя как бы не было?“ — „Вот именно, — отвечает он ей. — <…> Можно быть яркой личностью и одновременно стремиться <…> чтобы не знали тебя. Чтобы затеряться, как бы исчезнуть совсем“» (ВысМ, 126–127). Герой — воплощенное служение. О своем старшем помощнике, почти друге, тот же персонаж думает: «Заодно мы с ним. А все равно… Я одиночка… Сам сужу, сам привожу приговор в исполнение, сам спасаюсь или погибаю. Человек-молния, человек-удар. Мститель. И… волк нелюдимый. Мне трудно даже с единомышленником, до такой степени я индивидуалист» (там же, 279).
Иначе говоря, герой здесь чистая функция испытующего действия. В этом смысле существует вполне четкая для авторов и явная для читателей симметрия между протагонистом и его разнообразными противниками в понимании своей «особости», трактовке характера, движущих мотивов — их зеркальность, своеобразное двойничество. В наиболее сбалансированном виде эта романная закономерность сформулирована В. Доценко: «Савелий и Майкл Джеймс выполняли долг перед Родиной, каждый перед своей» (КБ, 511). Фактически полную параллель цитировавшимся выше рассуждениям об особой психологии протагониста — мстителя и спасителя — составляет следующий пассаж (повествование, как обычно в романе данного типа, ведется в третьем лице, но с точки зрения главного героя): «У бандитов своя, особая энергетика… Мерзкая энергетика. Энергетика мерзости… Россия сейчас не в состоянии трансформировать энергетику бандитизма хотя бы в шлаки… Меченый иногда думал, что сам он порождение этого чумового безвременья, не человек, а всего лишь горячечная мечта слабых, обиженных, потерпевших жизненное поражение — мечта о силе, о кулаке, о насмерть разящем ударе» (ВызМ, 203). Далее развивается своего рода «манихейская» антроподицея и сотерология, вообще характерная для романов описываемого типа: «Не добро он несет, а зло… Он считает, что мир стоит на зле, но во благо употребленном», — самооправдание, как помним, гетевского Мефистофеля. Зло при этом, «вероятно <…> нужно и как строительный материал, и как горючее, на котором неизвестно куда летит планета» (там же).
Если вернуться к перспективе исторической социологии культуры, то можно видеть, что под общей эгидой «истребляющего спасителя» герой супербоевика, а часто и его главный противник соединяют в себе черты нескольких моделей человека, сложившихся в Европе (и европейской словесности) традиционалистской эпохи и фигурирующих далее на правах литературной фикции в популярном романе XIX–XX вв. Во-первых, это монах, аскет. Во-вторых, воин, представитель воинского «сословия», даже «ордена» (чаще это сам герой или его сподвижники), либо носитель соответствующей профессии (чаще это характеристика соперников, противников героя, см. апологию Специалиста устами ведущего свою контригру генерала КГБ Балясинова — ВысМ, 179–180). В-третьих — и это более поздний смысловой пласт, относящийся уже к периоду распада традиционных социальных связей и эрозии сословных норм, — авантюрист, азартный охотник за удачей, игрок, даже плут, но особого рода: не имеющий собственного интереса и не ищущий себе ни денежной, ни статусной выгоды (см. выше о его программной «незаметности» — трансформированный мотив сверхъестественной, «незримой» помощи, «невидимой руки»). Так характеризует себя сам протагонист («Я люблю жизнь, мне нравится, если она каждый день преподносит мне что-нибудь новенькое… мне нужна борьба, нужно разнообразие» — ВысМ, 271). Но практически то же говорит о себе один из его противников: «Я хочу увлекательной игры, риска. Я авантюрист по складу» (там же, 319); «Ему давно хотелось помериться силами <…> Пусть победит сильнейший!» (КБ, 126). Жизнь для него — предельно опасная схватка, смертельный спорт, рискованная партия, ставка в которой — он сам («моя ставка — жизнь» — ВысМ, 319).
Мотивация и смысловые ресурсы действия: судьба
При этом надо различать тактику действия героев (вполне прагматическую и потому, в общем, одинаково калькулируемую любой действующей «стороной»), их притязания и оценки (ценности, обобщенные цели) и, наконец, обоснование жизненной позиции и поведения в целом, горизонты понимания, представления о силах, движущих «миром» (мировоззрение, идеологию).
Рисунок инструментального поведения по достижению конкретных целей (в конечном счете это разгром противника) для всех героев практически одинаков: средства здесь начиная с технических «приемов» и кончая «человеческими» жертвами подчинены цели. Достаточно традиционны для боевика, включая советский остросюжетный роман или фильм (хотя в данном случае они уже не педалируются, как в «ТАСС уполномочен заявить» или «Семнадцати мгновениях весны», а проходят фоном), и предельные ценности, определяющие поведение героев: это «огромный груз ответственности перед своей страной, своим народом» (ЗБ, 321). Исходная точка, смысловое начало действия здесь — осознание непорядка в стране: «Боже, что же происходит со страной?» (КБ, 115). И подобное нарушение стабильности, нормального, принятого хода вещей, и восстановление попранного уровня нормы («порядок») так или иначе связываются с высшей властью. Поэтому, с одной стороны, — «до чего же докатилось руководство?» (КБ, 493 — о развязывании чеченской войны). С другой — как подчеркивает один из заговорщиков — генералов КГБ, «система безопасности не может быть опорочена» (ВысМ, 191), а как бы ему в ответ герой в том же чине из, казалось бы, противоположного лагеря, вспоминая о единстве государства — партии — системы безопасности советского типа, вздыхает: «Я не могу отметать все, что было в нашем прошлом. Уверяю, было много и хорошего» (КБ, 212). Итак, на стороне главного героя и его сподвижников — целое, система (либо распадающаяся в настоящем, либо подлежащая созданию в самом ближайшем будущем). Напротив, противники их одержимы частным интересом. Это «дикая страсть» (ВысМ, 162) к непомерной власти и богатству. Героем движет жажда морального возмездия, его врагами — чаще всего поиски социального реванша.
Общий образ мира и картина сознания в боевике — при всей имеющейся христианской и, в частности, православной бутафорике — в целом скорее пантеистические (христианское здесь равнозначно «общечеловеческому». — КП, 245). Может показаться, что смысловые координаты тут восходят к хорошо известной и традиционной для популярного романа — скажем, советских романов-эпопей 1970-х гг.[230] — мифологии «судьбы», надындивидуального, фатального целого, нормативно предписанной матрицы родового, коллективного существования. Однако семантика понятия «судьба» в боевике 1990-х гг., как представляется, иная.
Во-первых, речь идет именно о персональном предназначении протагониста: «Вот такая судьба у нашего героя. Тяжелая, опасная, все время расставляющая смертельные ловушки на его жизненном пути, подвергающая постоянным испытаниям» (ВБ, 79). Последнее слово, по-моему, ключевое. Если искать общекультурные параллели, то перед нами не экспликация, скажем, античного рока (ананке, фатума) — образца трагического героя, который вместе с хором знает, но в отличие от него не понимает. («Судьба» в трагедии, собственно, и есть способ — символический механизм — принудить протагониста к пониманию посредством действия, так сказать, «на себе», за что — действие как понимание — герой расплатится жизнью, поскольку в сцеплении символов, символическом сюжете драмы «познавший», проникший в предопределение мира, которое выше даже богов, не может остаться тем же, каким был.) «Судьба» в боевике — это структура ситуаций, в которых герой проявляет и удостоверяет себя как герой, узнаваемая другими (и нами, читателями) модель. Иначе говоря, это обобщающая, генерализующая по своей функции тавтологическая конструкция, скрытая метафора героического характера: герой здесь выступает как активный субъект своей судьбы, а она — как неотъемлемый атрибут героя и в подобном значении отчасти близка, например, к «фортуне» европейского плутовского романа, чье «расположение» можно снискать, а можно и утратить.
Непредугаданность подобного рисунка — знак, как уже говорилось, персональной ответственности героя. Но вместе с тем (и это — во-вторых) отсылка к иным уровням значений. Высшее обоснование индивидуального жизненного проекта относится в романе-боевике к смысловым областям не социального (род, класс, нация или страна), а запредельного: «Кто может предугадать свою судьбу? Только Бог и волхвы: человеку это не под силу» (КБ, 365). В качестве строительного материала для подобных конструкций в боевике используются достаточно стертые, почти что анонимные элементы квазирелигиозного, натуралистического (космического) спиритуализма, популярных доктрин «духовного спасения» и других рационалистических инициатив, ставших доступными широкому читателю в последнее время (тео- и антропософии, западной и восточной мистики, дианетики, идеологизированного фрейдизма и юнгианства вкупе с аутогенной тренировкой, вегетарианством, голоданием и другими программами воздержания, овладения своими ресурсами и самоусовершенствования, преображения). Как на сегодняшних книжных развалах больших городов, библейский ковчег соседствует у авторов и героев боевика с «подсознанием», транслированная искусством греческая мифология («Минотавр» Пикассо) — с космической энергией: «Я принадлежу огромному Целому, я чувствую в себе мощь всего Космоса», — внушает себе герой, которого испытывают на «детекторе лжи» и подвергают «психотропному влиянию», чтобы превратить в «зомби» (ВысМ, 346).