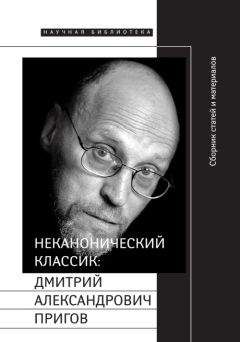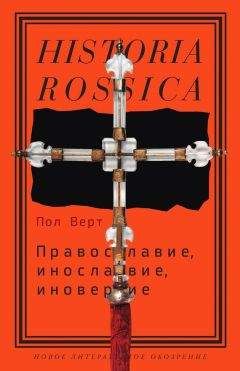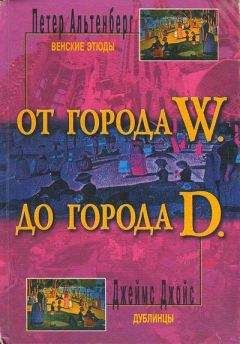Но столь жесткие правила единства, обрубившие все внешние связи с рыхлой, но трепещущей жизнью, создали некую критическую самодовлеющую массу внутрисценисценической жизни, которая начала коллапсировать, и в результате оказалась вне пределов посторонней досягаемости, даже наблюдаемости со стороны. ‹…› Что там произошло? ‹…› Не понять. Не видно. Темно. Черно. Черная дыра[58]. Так что же сможет узнать тот третий Дмитрий Александрович, когда и мы для него в данный момент находимся в противоречащем самому себе пространстве оговорок и отступлений, которые суть распавшиеся и потерявшие всякую материальную основу те частицы хаотической жизни, лепившиеся и с трудом удерживавшиеся на периферии блистательной конструкции трех единств (М, с. 119).
2Переход из одного пространство в другое, который часто описывался как переход от аксиоматики одного художественного мира к аксиоматике другого, есть способ фундаментальной трансформации смыслов, каждый из которых вписывается в сингулярную конфигурацию пространства того или иного монадического мира. Указание на то, что можно неожиданно оказаться в «райском пространстве среди ада», возникает у Пригова в гораздо более позднем тексте 1994 года «Монады», который открывается так: «Возле самого что ада / Одна бедная монада / Плачет, плачет, убивается / Мила друга дожидается / Как Эвридика, / Вернее, Орфей…» (М, с. 50). Эвридика и Орфей тут неустойчивые, лишенные идентичности носители райского любовного блаженства в аду. Неустойчивость между тем противоположна самому статусу монады, которая является простой субстанцией, наделенной формальным принципом своего существования – энтелехией:
Всем простым субстанциям, или сотворенным монадам можно дать название энтелехий, ибо они имеют в себе известное совершенство, ‹…› и в них есть самодовление ‹…›, которое делает их источником их внутренних действий и, так сказать, бестелесными автоматами[59].
Монада воплощает устойчивость формальной структуры, придающей ей индивидуальность. Соответственно, переход от монады к монаде возможен только как коллапс одной энтелехии и возникновение на ее месте другой. Стоит Орфею повернуться к Эвридике, как Эвридика возникает на его месте. Переход монадных пространств невозможен. Весь приговский текст, посвященный монадам, осмысливает невозможность пространственных перетеканий. И хотя монады бессмертны, Пригов воображает ситуацию смертных монад, которая не предполагает их абсолютного исчезновения, но лишь распад присущих им формальных энтелехий:
Представьте, что вам оказалось быть 13‐й погибающей монадой, чтобы сохранить монаидальность, вы стараетесь исчезнуть стремительней, единоразово, что как‐то сохраняет хотя бы поспевающую за коллапсом форму, как потенцию… (М, с. 52)
Монада коллапсирует с такой стремительностью, что оставляет после себя телеологию чистой формы, нематериальное пространство, как носитель вписанных в него смыслов[60]. Многочисленные художественные миры, в том числе и те, что обыгрываются в «Катарсисе», – именно такие абсолютные изолированные умозрительные формальные конфигурации, несущие в себе потенцию смыслов. При этом произведение может описываться как череда пространственных коллапсов, после которых фрагменты, более не объединяемые в форму, вновь собираются вместе, но уже в другой конфигурации, в иной энтелехии. Так, в «Катарсисе» пространство одного мира начинает «коллапсировать, и в результате оказалось вне пределов посторонней досягаемости, даже наблюдаемости со стороны»; «распавшиеся и потерявшие всякую материальную основу частицы хаотической жизни» распадаются, но потом собираются вновь в конфигурации иного мира. В «Предуведомлении» к сборнику «Равновесие» (1997) Пригов, ссылаясь в подтексте на предустановленную гармонию того же Лейбница, так описывает этот процесс:
Вот, кажется, все рухнуло, рассыпалось на кусочки, несопоставляемые и взаимовраждующие. Кажется, что отныне и существовать‐то нам в пределах, в некоем неестественном, глупо-выдуманном диком позитивном дизъюнктивном синтезе, сцепившись зубами. Ан нет, приглядеться, так этих всех просто держит на необходимом веселом расстоянии друг от друга (порой и в пугающей, а иногда и необходимо-взаимогубительной близости) пальчиками эта самая, не улавливаемая привычно шарящими руками в привычных местах, гармония (М, с. 547).
Напомню, что эта гармония – не что иное как энтелехия. А зримой моделью такой души-энтелехии со времен Аристотеля считалось человеческое тело. Пригов писал об «осколках коммунального тела», во многих текстах у него описывается странное выпадение отдельных органов из единой целесообразной формы тела. В цикле «Зрение, одолевающее плоть» (1993) описывается распад тела. Во «Внутренних разборках» (1993) «моя здоровая нога» «пошла по улице гулять», или лирический герой вдруг встречается с собственной пяткой. Виновата во всем этом «распустившаяся» энтелехия-душа:
Потом разговор с душой, я попрекаю ее за безответственность, за то, что она всех распустила, ведь это все‐таки она – домоправительница и престолоблюстительница (М, 315).
Энтелехия тела – модель художественного пространства для Пригова. В одном случае (и в одном мире) тело оказывается человеческим, в другом геометрия его меняется, и из тех же фрагментов согласно иной потенции возникает иная фигура, например, монстр. В дальнейшем я еще буду говорить об интересе Пригова к геометрии, в частности, к трансцендентальным кривым Лейбница и к геометрии динамических топологических систем. Не буду останавливаться на этом сейчас. Приговское понимание формы созвучно лейбницевскому. Лейбниц провозгласил принцип непрерывности, лежащий в основе мироздания. Философ описывал свою эволюцию как постепенное преодоление сначала Аристотеля, а потом античного атомизма, с его точки зрения неоправданно видевшего в атомах «реальные единицы». Отвергнув атомизм, Лейбниц вернулся к аристотелевским субстанциальным формам и решил, что «природа этих форм состоит в силе»[61]. Формы эти, по мнению философа, следовало понимать как души:
Аристотель называет их первыми энтелехиями. Я, может быть более понятно, называю их первичными силами (forces primitives), которые содержат в себе не только акт или осуществление возможности, но и первичную деятельность[62].
Эти формы неделимы и вечны, они лежат в основе монад:
Существуют только атомы-субстанции, т. е. единицы или реальные единства, абсолютно лишенные частей, составляющие источники деятельности и первые абсолютные принципы сложения вещей и как бы последние элементы в анализе вещей субстанциальных. Их можно было бы назвать метафизическими точками: они обладают чем‐то жизненным и своего рода представлениями; математические же точки – это их точки зрения для выражения универсума[63].
Форма, о которой говорит Лейбниц, – это чисто умозрительная конфигурация некоего абстрактного поля, которое соотносит между собой попавшие в него элементы, располагая их на поверхностях, искривленных невидимой силой, составляющей ее сущность.
Внутри некой геометрической аксиоматики в соответствии с принципом непрерывности, одна такая субстанциальная форма производит иную, и конфигурация, вычерчиваемая таким изменением поверхности, несет в себе всю будущую геометрию форм. Энтелехия может быть вся выражена некой алгебраической формулой, которая позволит произвести из прошлых конфигураций будущее,
подобно тому, – пишет Лейбниц, – как г-н Гудде был намерен в свое время начертить такую алгебраическую кривую, контур которой обозначал бы все черты определенного лица[64].
3Итак, существует некое невидимое силовое поле, подобное тому, о котором писал Ницше. В этом поле постоянно меняется конфигурация силовых точек, которые невидимы и являются «метафизическими точками», описываемыми исключительно математически. Но это силовое, метафизическое поле, оно же – энтелехия, меняет видимый мир и трансформирует тела в нем. И каждая такая трансформация выражает переход от одного пространства, одной геометрии к другой. Важно, однако, то, что эта пространственная конфигурация невидима, чисто умозрительна и являет себя только через принцип «фигуративности», то есть деформации видимых форм. Пригов исходит из идеи такого силового, но невидимого поля. И хотя он декларирует, что его литература – это лишь форма манифестации перенесенного в слова зримого, сам этот перенос лежит вне области зрительно обнаружимого. Он начинает с видения, но видение оказывается невидимым.