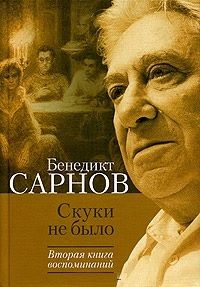► Не составляло секрета, что он сыграл ведущую роль в решении расширять НЭП; он открыто высказывался об этом и о своих идеологических новшествах. Он не только являлся вдохновителем взглядов партийного большинства на вопросы промышленного и сельскохозяйственного развития, но и лично написал «основные части» резолюции 1925 года по аграрной политике… Его теоретические предложения по спорным вопросам дня — о расслоении крестьянства и социальном развитии деревни, о характере государственной промышленности и ее взаимосвязи с сельским хозяйством, о закупочно-сбытовых кооперативах, о НЭПе как переходной системе и других проблемах «строительства социализма» — составляли провозглашенную дуумвиратом и, следовательно, партией, идеологию.
Официальный большевизм 1925–1926 годов был, в основном, бухаринским; партия следовала по бухаринскому пути к социализму…
(Стивен Коэн. «Бухарин». New York, 1974, стр. 226)В свете этой констатации историка становится яснее и понятнее, почему вдруг Маяковский, который по всему строю своих мыслей и чувствований, казалось, должен был сочувствовать левым, вдруг выразил готовность идти направо и даже объявил, что это хорошо.
Сделал он это не потому, что привык «колебаться вместе с линией партии» или, как герой Зощенко, «всегда симпатизировал центральным убеждениям», а потому, что этот, увы, недолгий, зигзаг генеральной линии уже дал к тому времени весьма ощутимые результаты. Именно он — этот зигзаг, это решение «расширять НЭП», в принятии которого ведущая роль принадлежала Бухарину, и позволили Маяковскому, не кривя душой, написать:
Окна
разинув,
стоят
магазины.
В окнах
продукты:
вина,
фрукты.
От мух
кисея.
Сыры
не засижены.
Лампы
сияют.
«Цены
снижены».
Стала
оперяться
моя
кооперация.
Бьем
грошом.
Очень хорошо.
И уж напрямую связаны с Бухариным, с его обращенным к крестьянам знаменитым лозунгом «Обогащайтесь!», вот эти строчки Маяковского:
За городом —
поле.
В полях —
деревеньки.
В деревнях —
крестьяне.
Бороды
веники.
Сидят
папаши.
Каждый
хитр.
Землю попашет,
попишет
стихи.
Что ни хутор,
от ранних утр
работа люба.
Сеют,
пекут
мне
хлеба.
Доят,
пашут,
ловят рыбицу…
«Землю попашут, попишут стихи» — это, конечно, не всерьез. В терминологии Бахтина это — «карнавал», уступка владеющей сознанием Маяковского еще с давних, футуристических времен «карнавальной стихии». По-нашему, по-сегодняшнему говоря, — стёб. Но этот стёб, этот насмешливый, ернический тон был возможен только тогда, когда никто еще не помышлял о «развернутом наступлении на кулака», а тем более о «ликвидации кулачества как класса».
От бухаринского лозунга «Обогащайтесь!» осторожный Сталин — под давлением пока еще влиятельных левых — вынужден был отмежеваться. Но Бухарина он защищал. И даже весьма пылко:
► Чего, собственно, хотят от Бухарина? Они требуют крови тов. Бухарина. Именно этого требует тов. Зиновьев, заостряя вопрос в заключительном слове на Бухарине. Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте. (Аплодисменты. Крики: «Правильно!»)
Так было в печатном тексте сталинской речи. А если верить ходившим тогда слухам, Сталин защищал Бухарина даже еще горячее. Он будто бы выразился так: «Нашего Бухарчика мы вам не отдадим!»
Но спустя три года — те самые три года, которые у Маяковского пролегли между его «ХОРОШО» и «НЕХОРОШО», — тот же Сталин заговорил об ошибках Бухарина уже совсем в ином тоне:
► Вот вам образчик гипертрофированной претенциозности недоучившегося теоретика!..
Такова, товарищи, картина теоретических вывихов и теоретических претензий Бухарина.
И этот человек имеет смелость после всего этого говорить здесь в своей речи, что в теоретической установке нашей партии «что-то гнило», что в теоретической установке нашей партии имеется уклон к троцкизму!
И это говорит тот самый Бухарин, который допускает (и допускал в прошлом) ряд грубейших теоретических и практических ошибок, который недавно еще состоял в учениках у Троцкого, который вчера еще искал блока с троцкистами против ленинцев и бегал к ним с заднего крыльца!
За разгромом левых последовал разгром правых, и сразу (руки у Сталина были уже развязаны) началась страшная пора «раскулачивания» и всеобщей коллективизации.
Последствия не замедлили сказаться.
В середине 60-х в Коктебеле Борис Слуцкий познакомил меня с художником С. Я. Адливанкиным. Тот за несколько сеансов написал его портрет, и портретом этим Борис очень гордился.
Когда я сказал, что портрет, по-моему, художнику не больно удался, Борис снисходительно улыбнулся:
— Ну, что вы! Портрет, конечно, не дружественный, но очень хороший.
Главную роль в такой его оценке этого «недружественного» портрета сыграл тот факт, что С. Я. Адливанкин в прошлом был футуристом.
К футуристам Борис питал особую слабость.
Однажды он с важностью сказал мне:
— Вчера я был у Митурича, и — можете себе представить? — оказалось, что за тридцать лет я был первый футурист, который его посетил.
Фраза показалась мне забавной, и я отреагировал на нее юмористически:
— А вы разве футурист, Боря?
Но Борис этого моего юмористического тона не принял: к своему футуризму он относился вполне серьезно.
Узнав, что Адливанкин некогда был футуристом, я своего отношения к написанному им портрету Бориса не изменил, но художником заинтересовался. Особенно когда узнал, что в годы своей футуристической юности он приятельствовал с Маяковским. Ну и, разумеется, в одном из первых же наших разговоров я спросил его: отчего Маяковский застрелился? С этим вопросом я лез тогда чуть ли не к каждому сверстнику поэта. Ответы бывали разные, иногда очень обидные, даже, как мне казалось, оскорбительные. Один из спрошенных, например, сказал:
— Дали бы вашему любимцу какой ни на есть орденок, он бы и не вздумал стреляться!
Но ответ С. Я. Адливанкина был непохож ни на одно из тех объяснений, которые мне раньше — да и потом — приходилось слышать.
— Много еще будут об этом гадать, спорить, — задумчиво сказал он. — Полная правда, наверно, выяснится не скоро. Но одно мне ясно. Только тот, кто жил в то время, может понять, каким шоком было для всех нас то, что случилось с нашей жизнью в самый канун его самоубийства. Представьте, магазины ломятся от товаров. Икра, балык, розовая свежайшая ветчина, фрукты, «Абрау-Дюрсо» и прочее… И вдруг: вы входите в магазин, а кругом — пустые прилавки. На всех полках только один-единственный продукт: «бычьи семенники». Маяковский, знаете ли, был очень чувствителен к таким вещам…
ГОЛОСА СОВРЕМЕННИКОВВ непосредственной близости от памятника Пушкину, тогда еще стоявшего на Тверском бульваре, в доме, которого уже давным-давно не существует, имелся довольно хороший гастрономический магазин в дореволюционном стиле.
Однажды в этом магазине, собираясь в гости к знакомым, Маяковский покупал вино, закуски и сласти. Надо было знать манеру Маяковского покупать! Можно было подумать, что он совсем не знает дробей, а только самую начальную арифметику, да и то всего лишь два действия — сложение и умножение.
Приказчик в кожаных лакированных нарукавниках — как до революции у Чичкина — с почтительным смятением грузил в большой лубяной короб все то, что диктовал Маяковский, изредка останавливаясь, чтобы посоветоваться со мной.
— Так-с. Ну, чего еще возьмем, Катаич? Напрягите все свое соображение. Копченой колбасы? Правильно. Заверните, почтеннейший, еще два кило копченой «московской». Затем: шесть бутылок «абрау-дюрсо», кило икры, две коробки шоколадного набора, восемь плиток «Золотого ярлыка», два кило осетрового балыка, четыре или даже лучше пять батонов, швейцарского сыра одним большим куском, потом сардинок…
(Валентин Катаев. «Трава забвенья»)Маяковский пил мало, главным образом вино того сорта, которое теперь называется «Советским шампанским», а в те годы называлось шампанским «Абрау-Дюрсо».