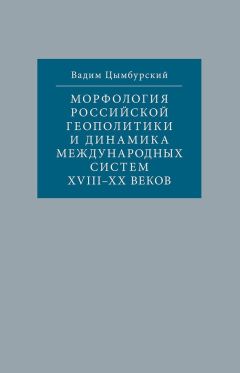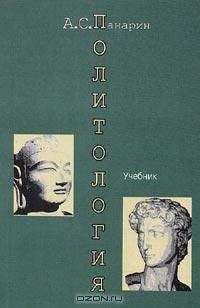Ознакомительная версия.
Автор полагает, что перед лицом подобной ситуации задачи России на Великом Лимитрофе могут быть представлены в следующем виде (при этом он исходит из допущения, что динамика милитаристских циклов Евро-Атлантики в первой четверти XXI в. инерционно сохранит тот же ритм, что и в предыдущие столетия Нового времени, – иначе говоря, надвигается новый милитаристский горб и попытки реализации больших проектов, в том числе и на Великом Лимитрофе, однако, страны Запада будут пытаться реализовать эти планы в рамках «суженного» эталона победы, посредством борьбы за частные уступки, и более того, даже в столкновении с народами других цивилизационных сообществ смогут им навязать тот же стиль игры).
Во-первых, Великий Лимитроф должен использоваться в той же функции, какую он приобрел в 1990-х: он должен служить поясом безопасности России, предотвращающим ее контактное соприкосновение с центрами силы, сложившимися на платформах соседних цивилизаций. Ряд зон Лимитрофа способен внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, а некоторые его сегменты могут обрести функцию «точек роста», которые должны быть ориентированы на интересы российской экономики. Во-вторых, с точки зрения России, крайне нежелательно укоренение на Великом Лимитрофе трансрегиональных «осей», которыми могли бы обеспечиваться коммуникации на протяжении этой системы в обход России, особенно в тех случаях, когда подобные оси получали бы прямой выход на иноцивилизационные центры мощи (будь то Евро-Атлантика или Китай). Таким образом, автор полагает, что в интересах России – иметь влияние на те пункты Лимитрофа, которыми могло бы блокироваться функционирование подобных осей (некоторые из пунктов могли бы одновременно использоваться на правах «точек роста»). Таковы – рассекающая балтийско-днепровское «междуморье» Белоруссия; Северная и Южная Осетия, разрезающие суннитский пояс Северного Кавказа; Абхазия и Аджария, которыми в основном контролируется доступ Грузии к морю; Армения с Нагорным Карабахом, которые нависают над коммуникациями, связывающими Каспий с Турецкой Анатолией.
Наконец, особняком стоит задача соотношения и стыковки двух геополитических систем, к которым сегодня в большей или меньшей степени принадлежит Россия. Речь идет о Великом Лимитрофе и индо-тихоокеанском ареале (Великом Океане). Сейчас кажется сугубо неточным говорить о России как государстве, лежащем «между Европой и Азией». У Европы и Азии существует множество вариантов стыковки помимо России. Однако, совершенно оправданно характеризовать Россию как государство, одновременно выходящее на Великий Океан и на всю протяженность Великого Лимитрофа. Если пояс Лимитрофа позволяет резко снизить прямое внешнее давление на Россию, то доступ к Тихому океану (и в меньшей мере к Северному Ледовитому) обеспечивает России в некоторой мере прямой выход в мир помимо Лимитрофа. Таким образом, предполагается, что частью стратегии, нацеленной на закрепление позиции России в Великом Океане, должна быть борьба за переключение на Россию по возможности большей доли грузов, идущих в сторону Европы со стороны Великого Океана. При этом, речь должна идти не только о Транссибе и его модернизации, о подавлении сибирской железнодорожной преступности и т. д., но также о переносе на Россию грузов со Среднего и Ближнего Востока, пропускаемых через «новую» Центральную Азию. В последнее время появились серьезные разработки, доказывающие вредоносность для России проекта «Туманган» как части политики возрождения Великого Шелкового пути, т. е. использования коммуникаций Лимитрофа (его анатолийского и среднеазиатского сегментов) в ущерб России. Так вот, задача видится в том, чтобы переключить на Россию также и те грузы, которые пройдут по восточной части Великого Шелкового пути через Китай. В конечном счете, политика России должна стремиться к тому, чтобы три грузовых потока – непосредственно с Тихого океана, со стороны Китая (через Казахстан) и с Индийского океана (через Туркмению и далее) – встречались в «новой» Центральной России, соприкасающейся с «новой» Центральной Азией через лимесы приуральских и казахстанских степей.
Можно сказать, в рамках этой модели Великий Лимитроф – Евразия рассматривается как геополитическая реальность, коррелирующая с реальностью платформы самой России («земли за Великим Лимитрофом») и способная, с российской точки зрения, представать и в благотворном, и в угрожающем качестве. Он может работать на изоляцию России, он способен размывать ее платформу и способствовать «расточению» России в Больших Пространствах. Но он может стать условием безопасности России и фоном для ее нового самоопределения. Речь идет в некотором смысле о такой евразийской политике, которая не растворяла бы Россию в межцивилизационных интервалах Евразии, но, «завязывая» Евразию в некоторых ключевых вопросах и важнейших узловых пунктах на Россию, вместе с тем, исходила бы из признания автономии этой системы как защитного и «питающего предела» (точный смысл лат. limitrophus) России.
Каково смысловое и прагматическое соотношение между двумя версиями, обозначенными, соответственно, как «остров Россия» и как «земля за Великим Лимитрофом»?
Метафора «острова» изначально имела двоякий смысловой потенциал. Как метафора «морская» она была призвана подорвать стереотип «континента России», когда практически утрачивается различие между Россией и не-Россией, и первая практически растворяется в пространствах континента – независимо от того, трактуются ли они как европейское поле диалога культур или как ожидающие модернизации во вторую очередь огромные протяженности «второй Европы». Но метафора «острова» предполагает и второй план ассоциаций, вытекающих из широчайшего диапазона употреблений слова «остров» в диалектах России. Судя по «Словарю русских говоров», здесь могут называться «островом» самые разные объекты, выделенные на некоем, условно нейтральном фоне, маркированные «по отношению к нему». Это может быть «луг, омываемый рекой», «возвышенное место среди болот», «оазис среди бесплодной местности», «гряда, грива среди равнины; курган», «лесное окруженное селение» – или иные вычлененные локусы среди земной или водной поверхности. Независимо даже от «морских» ассоциаций, метафора «острова» была нацелена против расточения России в континентальных протяженностях (ср. такой пример из русской топонимики, как название царской усадьбы XVI-XVII вв. Остров, расположенной на высоком холме возле Москвы-реки).
В специальной работе[60] автор попытался представить направление исследований, которое можно назвать «глубинно-психологическим обоснованием» «новой российской геополитики». В этой статье сополагаются факты, уже перечисленные выше: свидетельства на Востоке о северной Руси, прародине русской государственности, как об отделенном от славянского ареала «острова Русии»; высказывания русских авторов XVI в. о «великом острове Русии», или о «российском острове»; философский образ Москвы – Третьего Рима как последней твердыни православия среди «потопа». В этой же связи обращалось внимание на китежанский и петербургский мифы города, скрывающегося в водах, и на прямую конверсивную связь между образом Китежа, сокрытого в водах до Судного дня, с философской идеей Третьего Рима, предназначенного выситься среди «потопа» до окончания истории и схождения на землю Нового Иерусалима (Петербург – столица, поглощаемая водами, оказывается и как бы негативом Китежа).
Там же привлекается мотив «церкви среди Океана» в русских апокрифах и в знаменитом духовном стихе о Голубиной книге, претворившийся в многочисленных раскольничьих поверьях, в том числе в мифе Беловодья. Особо привлекается обширный материал XX в.: китежанские мотивы в литературе внешней и внутренней эмиграции, в том числе мотив «погрузившегося под воду» Третьего Рима и православия как захлестываемого чудовищным приливом «острова» в дневниках С. Булгакова начала 1920-х; образ революционной России как «социалистического острова» в советской традиции; мотив «России-острова» в русской литературе 1970–1990 гг. – как в поэзии (Ю. Кузнецов: «И снился мне кондовый сон России, / Что мы живем на острове одни…»), так и в прозе («Пирамида» Л. Леонова, «Одиночество вещей» Ю. Козлова; ср. также у последнего автора в антиутопии «Ночная охота» преломление «китежанского» мифа в образе цветущей «краснознаменной Антарктиды», скрытой от проклятого мира за океанами и стометровым поясом смертельной радиации).
М.В. Ильину принадлежит интересная историософская попытка истолковать настойчиво возникающий во времени парадоксальный мотив «острова Россия» в духе идеи О. Шпенглера о символическом «прафеномене» каждой цивилизации, заключающемся в ее склонности к некоему преимущественному модусу трактовки пространства. Этот автор предполагает в «острове» именно такой «русский прафеномен», якобы мотивированный особенностями существования древних восточных славян как изначально «речных людей», «жителей речных и озерных урочищ среди "пустынь" леса и степи», склонных к пониманию жизненного (и исторического) выбора как «броска-перехода от одного урочища к другому через опасное, грозящее бедами пространство» леса или степи [Ильин 1994, 20]. Если многими мыслителями – и Шпенглером, и Н. Бердяевым, и Ф. Степуном – географический русский прафеномен усматривался в образе «бескрайней равнины», то обстоятельствами конца XX в. оказались актуализированы многочисленные историко-филологические данные, выдвигающие на роль такого прафеномена «остров», каким этот смыслообраз предстает по русским диалектам, т. е. выделенный, отмеченный участок, пребывающий в неоднозначном отношении с окружающим фоновым пространством («большой горизонталью»), то сливаясь с нею, то ей противостоя, то над ней доминируя в едином ансамбле.
Ознакомительная версия.