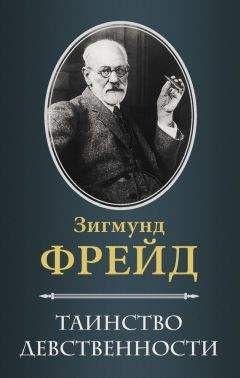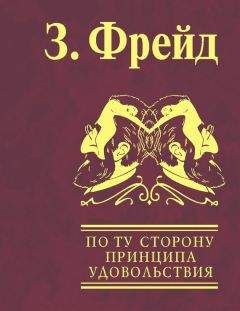Не подлежит никакому сомнению, что к тому времени отец стал для него тем страшилищем, со стороны которого ему угрожает кастрация, жестоким Богом, с которым он тогда боролся, Богом, заставляющим людей провиниться, чтобы затем за это их наказать, приносящим в жертву Своего Сына и сынов человечества, черты которого отразились на характере отца, хотя отца он, с другой стороны, старался защитить от этого Бога. Тут мальчику предстояло реализовать филогенетическую схему, и он осуществил это, хотя его личные переживания этому не соответствовали. Угрозы кастрацией или намеки на нее, с которыми он сталкивался, исходили от женщин[132], но это не могло надолго задержать конечный результат. В конце концов, отец все же стал тем лицом, со стороны которого он боялся кастрации. В этом пункте наследственность одержала победу над случайным переживанием; в доисторическую эпоху человечества, несомненно, отец совершал кастрацию в наказание, а затем уменьшал его до обрезания. Чем дальше он в процессе невроза навязчивости продвигался по пути вытеснения чувственности, тем естественней было бы для него приписывать подобные злостные намерения отцу, настоящему представителю чувственных проявлений.
Отождествление отца с кастратором[133] приобрело громадное значение, став источником острой, усилившейся до желания смерти бессознательной враждебности к нему и чувства вины как реакции на эту враждебность. Но пока он вел себя нормально, т. е. как всякий невротик, находящийся во власти комплекса Эдипа. Замечательно, что и в этом отношении у него было противоположное направление, в котором отец был кастрированным, вследствие чего вызывал у него сострадание.
При анализе церемониала дыхания в присутствии калек, нищих и т. д. я показал, что и этот симптом относился к отцу, который вызвал в пациенте сострадание, когда тот посещал лечебницу. Анализ дал возможность проследить эту нить еще дальше. В очень раннем возрасте, вероятно, еще до соблазнения (3 года 3 месяца), в имении был бедный поденщик, который носил в дом воду, он не мог говорить будто бы потому, что ему отрезали язык. Вероятно, это был глухонемой. Ребенок его очень любил и жалел от всего сердца. Когда несчастный умер, он искал его на Небе[134]. Это был первый калека, вызвавший в нем жалость; судя по общей связи и порядку в анализе, он был, несомненно, заместителем отца.
В связи с этим калекой анализ открыл воспоминание о других «симпатичных слугах», говоря о которых он подчеркнул, что они были болезненными или евреями (обрезание!). И лакей, который помогал чистить его после «несчастья» в возрасте четырех с половиной лет, был евреем, к тому же чахоточным, и вызывал в нем сострадание. Все эти лица относятся ко времени до посещения отца в санатории, т. е. до образования симптома, который посредством выдыхания не должен был допустить отождествления с внушающими жалость. Тут анализ в связи со сновидением снова повернул к самому раннему периоду и побудил пациента к утверждению, что при соитии в первичной сцене он наблюдал исчезновение пениса, пожалел по этому поводу отца и радовался появлению нового органа, который считал потерянным. Итак, новое чувство, опять-таки исходящее из этой сцены. Нарциссическое происхождение сострадания, за которое говорит само слово, здесь вполне очевидно.
Дополнения из самого раннего детства
Во многих анализах бывает так, что при приближении к концу вдруг всплывает новый материал, остававшийся до того тщательно скрытым. Или же однажды мельком и равнодушным тоном делается незначительное замечание, как будто совершенно излишнее, к этому в другой раз присоединяется что-то новое, что уже заставляет врача насторожиться, и, наконец, в том обрывке воспоминаний, которому не придавалось значения, открывается ключ к самым важным тайнам, окутывающим невроз больного.
Еще вначале мой пациент рассказал о том времени, когда его испорченность стала переходить в страх. Он преследовал прекрасную большую бабочку с желтыми полосками, большие крылья которой заканчивались острыми углами, т. е. адмирала. Вдруг, когда он увидел, как бабочка опустилась на цветок, им овладел ужасный страх перед насекомым, и он с криком убежал.
Время от времени он возвращался в анализе к этому воспоминанию, требующему объяснения, которое долго не давалось. Заранее можно было предположить, что подобная деталь сохранилась в воспоминании не сама по себе, а занимала место более важное, как покрывающее воспоминание, с которым она была каким-либо образом связана. Однажды он сказал, что это насекомое на его языке называется «бабочка», «старая бабушка»; вообще, бабочки казались ему женщинами и девушками, а жуки или гусеницы – мальчиками. Во время той сцены, вызвавшей страх, должно было проснуться воспоминание о каком-нибудь женском существе. Не стану скрывать, что тогда я предположил как возможность, что желтые полосы адмирала напомнили ему такие же полосы на платье, которое носила женщина. Делаю это только для того, чтобы показать на примере, как, обыкновенно, бывают недостаточны комбинации врача для разрешения возникающих вопросов и как неверно взваливать ответственность за результаты анализа на фантазию врача и на внушение с его стороны. В связи с чем-то совершенно другим много месяцев спустя пациент заметил, что распускание и складывание крыльев бабочки, когда она опустилась, произвело на него самое неприятное впечатление. Складывание крыльев, подобно тому как женщина раздвигает ноги и при этом получается римская цифра «V», – как известно, пять часов – время, в которое еще в детские годы, но также и теперь у него обычно наблюдалось понижение настроения.
Подобная мысль мне никогда не пришла бы в голову, но ценность ее возрастала от соображения, что вскрытый ею ход ассоциаций носил чисто инфантильный характер. Внимание детей, как я часто замечал, гораздо больше привлекается движением, чем покоящимися формами, и нередко на основании сходства движений у них появляются такие ассоциации, которые взрослые упускают, не обращая на них внимания.
Затем маленькая проблема снова исчезла. Я хочу указать еще и на то основательное предположение, будто острые, палкообразные концы крыльев бабочки могли иметь значение генитальных символов.
Однажды очень робко и неясно всплыло у больного нечто вроде воспоминания о том, как очень рано, еще до няни, за детьми ходила девушка, которую он очень любил; у нее было то же имя, что у матери. Несомненно, он отвечал на ее нежность. Итак, забытая первая любовь. Мы оба согласились с тем, что, вероятно, произошло нечто, что потом приобрело большое значение.
Затем, в другой раз он исправил свое воспоминание. Ее не могли звать так, как мать, с его стороны это было ошибкой, которая показывала, что в его воспоминаниях она слилась с матерью. Настоящее ее имя припомнилось ему косвенным путем. Вдруг он вспомнил о сарае в первом имении, в котором хранились собранные плоды, и об определенном сорте груш великолепного вкуса, больших, с желтыми полосками на кожице. На его родном языке эти плоды называются «груша» – это и было имя девушки.
Таким образом стало ясно, что за покрывающим воспоминанием о преследуемой бабочке скрывалось воспоминание об этой девушке. Но желтые полосы находились не на платье, а на груше. Откуда же взялся страх, когда ожило воспоминание о ней?
Возможна была следующая комбинация: у этой девушки он маленьким ребенком впервые увидел движение ног, которое и запомнил как римскую цифру «V», – движение, открывающее доступ к гениталиям. Мы отказались от этой комбинации и ждали дальнейшего материала.
Скоро появилось воспоминание об одной сцене, неполное, но вполне определенное, поскольку оно сохранилось. Груша мыла пол, возле нее стояло ведро с водой и метла из коротких прутьев; мальчик был тут же, девушка дразнила или высмеивала его.
То, чего тут недоставало, легко было дополнить из других воспоминаний. В первые месяцы лечения он рассказывал о навязчивой влюбленности в крестьянскую девушку, от которой заразился болезнью, послужившей поводом к дальнейшему заболеванию. Странным образом он противился тогда назвать имя девушки. То был единичный случай сопротивления; обычно он безусловно подчинялся основному аналитическому правилу. Но он утверждал, что должен очень стыдиться, произнося это имя, потому что оно совсем деревенское. Знатные девушки никогда не носили бы такого имени. Имя, которое наконец стало известным, было Матрена. Оно звучало по-матерински. Стыд был, очевидно, не по адресу. Он стыдился не самого факта, что это увлечение касалось простой девушки, а только ее имени. Если это приключение с Матреной могло иметь нечто общее со сценой с Грушей, то стыд нужно перенести на это раннее происшествие.
В другой раз он рассказал, что, когда он узнал о жизни Яна Гуса, то был потрясен этой историей и его внимание было приковано к связкам хвороста, которые тащили на его костер. Симпатии к Гусу будят вполне определенное подозрение; я часто находил их у молодых пациентов, и мне всегда удавалось объяснить их одинаковым образом. Один из них сделал даже драматическую обработку судьбы Гуса. Он начал писать драму в тот день, когда лишился объекта своей тайной влюбленности; Гус погиб от огня, и, как другие, отвечающие такому же условию, он становился героем бывших энуретиков (enuresis – «недержание мочи»). Связки хвороста для костра Гуса мой пациент сам связал с веником (связка прутьев) у молодой девушки.