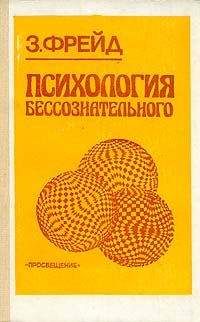доверчиво потому, что оно является нам в виде череды зрительных образов; ребенок же не обладает способностью – она развивается позднее – отличать галлюцинации или фантазию от действительности.
Взрослый человек приучается их различать; он понимает всю бесполезность пустого хотения и благодаря продолжительным упражнениям узнает, как откладывать свои желания до того момента, когда они вследствие изменения внешних условий смогут быть удовлетворены окольным путем. Соответственно, у взрослого во сне редко встречается психическое исполнение желания прямиком; возможно даже, что оно вообще не встречается; а все, что мнится как бы повторением инфантильных сновидений, требует гораздо более глубокого объяснения. Зато у взрослого человека – пожалуй, у всех без исключения людей с нормальным рассудком – развивается дифференциация психического материала, отсутствующая у ребенка: появляется психическая инстанция, которая на основании жизненного опыта сурово господствует над душевными движениями, оказывая на них задерживающее влияние и обладая по отношению к сознанию и произвольным движениям наиболее сильными психическими средствами. При этом часть детских эмоций, как бесполезная в жизни, подавляется новой инстанцией, и все проистекающие из этих эмоций мысли находятся в состоянии вытеснения.
Когда же эта инстанция, в которой мы узнаем свое нормальное «я», принимает решение заснуть, ей в силу психофизиологических условий сна приходится, по-видимому, ослаблять те препоны, с помощью которых она обыкновенно задерживает наяву вытесненные мысли. Это ослабление само по себе малозначительно: при всем обилии подавленных инфантильных стремлений эмоции из-за состояния сна с трудом находят себе дорогу к сознанию, причем в области моторики не осознаются вовсе. Впрочем, даже от этой угрозы спокойному продолжению сна следует избавиться. Тут нужно помнить, что и при глубоком сне известное количество свободного внимания должно быть обращено на те возбуждения, ввиду которых пробуждение представляется более целесообразным, чем продолжение сна. Иначе нельзя было бы объяснить то обстоятельство, что нас всегда можно разбудить раздражениями определенного свойства, как указывал физиолог Бурдах [257] (1838): скажем, мать просыпается от плача своего ребенка, мельник – от остановки жернова, большинство людей – от тихого оклика по имени. Вот это бодрствующее во сне внимание направляется также на внутренние возбуждения от вытесненного материала и образует вместе с ними сновидение, удовлетворяющее в качестве компромисса одновременно обе инстанции. Это сновидение, изображая подавленное или вытесненное желание исполненным, как бы психически его исчерпывает, а одновременно делает возможным продолжение сна, чем удовлетворяет вторую инстанцию. Наше «я» охотно ведет себя при этом как дитя; оно верит сновидению – дескать, да, ты право, но дай мне поспать. Тот факт, что мы по пробуждении столь пренебрежительно отзываемся о сновидении ввиду его спутанности и мнимой нелогичности, обусловливается, судя по всему, тем, что сходную оценку дает нашим возникающим из вытесненных побуждений эмоциям спящее «я», которое в своей оценке опирается на моторное бессилие этих нарушителей сна. Мы даже во сне сознаем порой это пренебрежение; так бывает, когда сновидение по своему содержанию слишком уж выходит за пределы цензуры – мы думаем: «Это всего лишь сон», – и продолжаем спать.
Против такого понимания не может служить возражением то обстоятельство, что и по отношению к сновидению существуют предельные случаи, когда оно не в состоянии уже исполнять свою главную функцию – охрану сна; например, при страшных сновидениях оно начинает играть иную роль – своевременно прерывает сон. Оно как бы становится добросовестным сторожем, который сначала исполняет свои обязанности, устраняя всякий шум, способный разбудить население; но когда причина шума представляется важной и сам он не в силах с нею справиться, этот сторож видит свою обязанность в том, чтобы разбудить спящих.
Эта функция сновидения становится особенно очевидной в тех случаях, когда до спящего доходят какие-либо внешние раздражения. Давно известно, что раздражения внешних органов чувств во время сна оказывают влияние на содержание сновидения; это можно доказать экспериментально. Перед нами чрезмерно ценимый, однако малопригодный итог медицинских исследований сновидения. Но здесь обнаруживается неразрешенная до сих пор загадка: внешнее раздражение от экспериментатора к спящему проявляется в сновидении отнюдь не в подлинном виде, оно подвергается одному из многочисленных толкований, выбор между которыми, как кажется, предоставлен психическому произволу. Впрочем, психического произвола, конечно, не существует; спящий может реагировать различным образом: он либо просыпается, либо ухитряется продолжать сон. В последнем случае он может воспользоваться сновидением, чтобы устранить внешнее раздражение, притом, опять-таки, различным образом: он может, например, устранить раздражение, узрев во сне такую ситуацию, которая совершенно не вяжется с данным раздражением. Например, одному господину с болезненным абсцессом в промежности снилось, будто он едет верхом на лошади; причем согревающий компресс, который должен смягчать боль, был принят им во сне за седло; так он справился с мешавшим ему спать раздражением. Чаще же бывает, что внешнее раздражение подвергается толкованию, в силу которого оно входит в связь с вытесненным и ждущим своего исполнения желанием, а потому теряет свой реальный характер и рассматривается как часть психического материала. К примеру, одному человеку приснилось, что он написал комедию, воплощающую известную идею; комедия ставится в театре; прошел первый акт, встреченный бурными одобрениями; публика аплодирует… Здесь сновидцу удалось продолжить сон, несмотря на шум; по пробуждении он уже не слышал никакого шума, но справедливо решил, что где-то поблизости, должно быть, выбивали ковер или постель. Сновидение, возникающее непосредственно перед пробуждением от сильного шума, всегда представляет собой попытку посредством толкования отделаться от мешающего спать раздражения и продлить сон еще на некоторое время – хотя бы на мгновение.
XII
Всякий, кто признает, что цензура является основной причиной искажения сновидений, ничуть не удивится, узнав по результатам истолкований, что большинство сновидений взрослых людей может быть прослежено посредством анализа до эротических желаний. Это утверждение подразумевает не сны с незамаскированным сексуальным содержанием (они знакомы всем сновидцам по собственному опыту и, как правило, единственные характеризуются в качестве «сексуальных снов»). Да и сновидения указанного рода еще способны изумить подбором тех особ, которые в них превращаются в сексуальные объекты, полным пренебрежением ко всем ограничениям, которые сновидец применяет к себе при бодрствовании, и множеством диковинных подробностей, намекающих на различные, как принято выражаться, «извращения». Однако очень многие другие сны, которые не обнаруживают признаков эротики в своем явном содержании, раскрываются в ходе анализа как исполнения сексуальных желаний; с другой стороны, тот же анализ доказывает, что очень многие мысли, оставшиеся от бодрствования как «остатки предыдущего дня», находят свое отражение в сновидениях лишь при содействии вытесненных эротических желаний.
Нет никаких теоретических оснований, почему это должно быть так; но для объяснения этого факта можно указать, что никакая другая группа влечений не