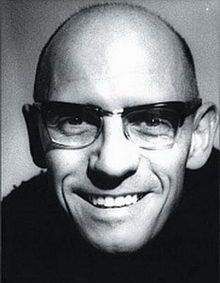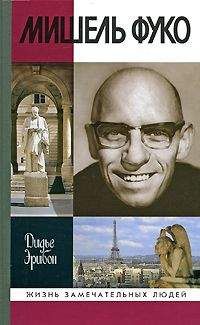настойчивее стремилась избавиться от нее как от препятствия, оградить от конвульсивной опасности плоть, которую она контролировала, при том что конвульсия и для медицины стала орудием в борьбе против Церкви. Ведь всякий раз, когда медики анализировали конвульсию, их целью было еще и показать, что феномены колдовства и феномены одержимости были на самом деле всецело патологическими феноменами. Таким образом, чем более полновластно медицина распоряжалась конвульсией, чем чаще медицина приводила конвульсию в качестве опровержения целого ряда христианских верований и обрядов, тем яростнее и тем радикальнее Церковь старалась от этих пресловутых конвульсий отделаться. В результате, когда в XIX веке разразилась новая волна христианизации, конвульсия стала неуклонно обесцениваться как предмет христианского, католического, да, впрочем, и протестантского почитания. Она стала неуклонно обесцениваться, и на смену ей пришло нечто другое, а именно явление. Церковь развенчивает конвульсию — или поддается ее развенчанию медициной. Она больше слышать не хочет обо всем, что напоминало бы об этом коварном проникновении тела наставника в плоть монахини. Но взамен она превозносит явление — и, разумеется, уже не явление дьявола, не то странное ощущение, которое испытывали монахини в XVII веке. Это явление Богоматери, явление на одновременно близком и далеком расстоянии, так, что до него, в некотором смысле, можно дотронуться, но в то же время недоступное. Хотя, так или иначе, явления XIX века (типичные примеры — случаи в Салетте и Лурде) абсолютно исключают телесный контакт. Правило неприкосновенности, неслиянности духовного тела Богоматери и материального тела озаренного — это одно из фундаментальных правил системы явления, сложившейся в XIX веке. Итак, это явление Богоматери на расстоянии;, без контакта; явление, субъекты которого — уже не монахини за монастырской оградой и на церковном попечении, которые поставили в тупик руководство совестью. Теперь субъектом становится ребенок, невинный ребенок, которого едва коснулась рискованная практика духовного наставничества. Этим-то ангельским очам ребенка, перед его взглядом, перед его лицом является лик той, что плачет в Салетте, или шепот той, что исцеляет в Лурде. Лурд соответствует Лудену — или, во всяком случае, указывает еще один ключевой эпизод в этой длинной истории плоти.
Обобщая, надо сказать следующее. В 1870–1890-е гг. складывается перекличка Лурда и Салетта, с одной стороны, и Сальпетриера [276], с другой стороны, на фоне Лудена как исторического узла этого процесса: образуется треугольник. С одной стороны, Лурд, откуда говорится: «Возможно, Луденская чертовщина и в самом деле была истерией наподобие той, что теперь есть в Сальпетриере. Так оставим ее Сальпетриеру. Нас это никоим образом не касается, ибо мы теперь заняты явлениями и маленькими детьми». На что Сальпетриер отвечает: «Мы можем сами сделать все то, что делалось в Лудене и Лурде. Мы вызываем конвульсии и можем вызвать явления». Лурд возражает: «Лечите по-своему, но есть исцеления, на которые вы не способны, и вот ими займемся мы». Таким образом, и опять-таки на старинном фоне истории конвульсий, складывается это переплетение и это соперничество между церковной и медицинской властями. Между Луденом и Лурдом, Салеттом, Лизье произошел грандиозный сдвиг, перераспределение медицинских и религиозных ставок на тело, своеобразная передислокация плоти с соответствующим передвижением конвульсий и явлений. И мне кажется, что все эти феномены, очень важные для возникновения сексуальности на территории медицины, могут быть поняты не в терминах науки или идеологии, не в терминах истории умозрений, не в терминах социологической истории болезней, но в рамках исторического изучения технологий власти.
И наконец, надо сказать о третьем антиконвульсанте. Первым, напомню, был переход от правила всеохватного дискурса к стилистике дискурса сдерживаемого; вторым была передача конвульсии как таковой на попечение медицинской власти. Третий же антиконвульсант, о котором я буду говорить в следующий раз, это опора, которую церковная власть нашла со стороны дисциплинарно-педагогических систем. Чтобы поставить под контроль, чтобы пресечь, чтобы окончательно искоренить все эти феномены одержимости, о которые споткнулась новая механика церковной власти, была предпринята попытка привить руководство совести и исповедь, все эти новые формы религиозного опыта, в среде дисциплинарных механизмов, которые в эту же эпоху были введены в казармах, школах, больницах и т. д. В виде иллюстрации этой прививки или, если хотите, внедрения духовных техник, отлаженных католицизмом после Тридентского Собора, в те новые дисциплинарные аппараты, которые приобретают контуры и организуются в XVIII веке, я приведу только один пример, на котором подробно остановлюсь в следующий раз. Это пример Олье, основателя семинарии при церкви Сен-Сюльпис, решившего построить для нее здание, которое отвечало бы поставленной задаче. Семинария Сен-Сюльпис, задуманная Олье, должна была воплотить, и воплотить во всех деталях, те самые техники духовного контроля, самоанализа и исповеди, что были характерны для тридентской религиозности. Потребовалось соответствующее здание. Олье не знал, как построить такую семинарию. Тогда он отправился в Нотр-Дам и попросил у Богоматери совета на сей счет. И действительно, Богоматерь явилась ему и вручила план, который стал планом семинарии Сен-Сюльпис. Вот что сразу поразило Олье: вместо дортуаров там были отдельные комнаты. Именно это, а не расположение капеллы, не размеры молельни и т. п., было главной особенностью преподнесенного Богоматерью плана сооружения семинарии. Ибо Богоматерь не ошибалась. Она хорошо понимала, что опасности, достигшие крайней степени, границы, предела в рамках этих техник духовного руководства, коренятся именно в ночи и в постели. Иначе говоря, именно постель, ночь, тела, созерцаемые в подробностях и в самом раскрытии их возможных сексуальных проявлений, — именно это является принципом всех опасностей, в которые за последние годы начали попадать духовные наставники, недостаточно искушенные в том, чем в действительности является плоть. Необходимо было выяснить процесс конституции этой плоти — богатой, сложной, преисполненной ощущениями, но и обуреваемой конвульсиями, с которыми наставники имели дело; необходимо было подобраться к истоку плоти, понять, каковы механизмы ее функционирования. Поэтому, оградив тела, поместив их в детально обозреваемое пространство, дисциплинарные аппараты (коллежи, семинарии и т. п.) позволили заменить всю эту сложную и несколько ирреальную теологию плоти дотошным наблюдением за сексуальностью в ее последовательном и реальном раскрытии. Так в центре внимания оказались тело, ночь, уход за собой, ночная одежда, постель, ибо не где-нибудь, а именно в простынях следует искать механизмы возникновения всех тех расстройств плоти, которые тридентское пастырство выявило, вознамерилось контролировать, но в итоге само оказалось в их западне.
Так в самом сердце, в самом средоточии, в самом очаге всех этих плотских расстройств, сопряженных с новыми формами духовного руководства, в конечном счете обнаружилось тело, поднадзорное тело юноши, тело мастурбатора. Об этом-то мы и поговорим в следующий раз.
Глава 9. Проблема мастурбации между христианским дискурсом плоти и сексуальной психопатологией
Лекция от 5 марта 1975 г
— Три формы соматизации мастурбации.
— Привлечение детства в сферу патологической ответственности.
— Препубертатная мастурбация и совращение взрослым: