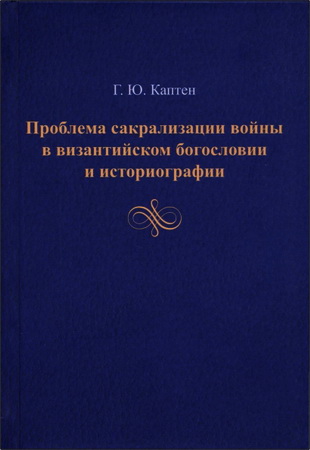жизни монашествующих и тех, которые совершают аскезу девичества, не может подвергаться опасности насилия, но должен вызывать почтение» [63].
Однако поскольку западный епископат еще в начале Средних веков стал владеть землей, то на него легла и обязанность защиты своих территорий. В средневековом сознании военачальник понимался именно как воин с оружием в руках, воодушевляющий и направляющий своих подчиненных. В таком случае появиться с оружием на поле боя не было зазорно для епископа, хотя, за крайне редкими исключениями, непосредственно они все же не сражались.
С ростом власти монарха и надобность в этом отпала, в то же время летописцы периодически отмечали появление на полях сражений сражающихся низших клириков, некоторые из которых вызывали даже восхищение воинской доблестью и удалью. Однако во время кризиса каролингской монархии и нового витка раздробленности проблема вновь стала чрезвычайно актуальной.
Во время языческих вторжений IX-X веков, когда арабы, мадьяры и, особенно, викинги нападали на уже давно христианизованные земли с развитой сетью церквей и монастырей, заметно участились эпизоды берущих оружие в руки клириков для защиты своих святынь и прихожан.
Несмотря на этот процесс, на Западе до эпохи Крестовых походов многие придерживались и традиционного мнения о недопустимости сражающегося духовенства. Так, например, папа Николай I в письме к князю Борису назвал войну «изобретением дьявола», допустимой только для защиты Родины и законов [64]. Если же война становится неизбежной, то на нее надо идти под знаменем Креста после соответствующих молитв, Причащения и совершения добрых дел. Молитвы же праведных, как это было показано Писанием на примере Моисея и Иисуса Навина, могут даровать воинам победу [65].
В начале XI века Фульберт Шартрский обличал епископов, которые сами начинают или провоцируют войны, вместо того чтобы удаляться, по древним канонам, от любого участия в военных действиях, которые относятся к делам светских правителей [66].
Англо-саксонский аббат Эльфрик писал в своей стихотворной поэме, повторяя мысли Августина и призывая монархов усилить свои заботы и построить гармоничное общество, где каждое сословие будет заниматься своим делом:
Слуги же Божьи — о мире молиться,
В битве незримой меч обнаживши.
Враг их — диавол, гибель несущий.
Превыше поэтому подвиг монахов
Схватки плотской с врагами смертными
На поле открытом, где видят люди.
Не должно тогда мирским владыкам
К битвам земным принуждать духовенство:
Должно им с недругом биться злобесным,
Ибо к тому они Богом призваны.
Стыд священнику бросить служение
И в битву идти, для которой негоден.
Не должно героям брани духовной
Сражаться рядом с мирским сословьем.
Господни рабы со времен Голгофы
Ни разу оружия в руки не брали.
Но брань иную вели до крови —
Под пытками жизнь отдавали безвинно,
Терновый венец бесстрашно стяжая.
Но жизнь и у мошки отнять не смели [67].
Путь, который проделал Запад с V по XI века, остался чуждым Византии, развитие которой в это время проходило совершенно другим образом. Поэтому и учение о справедливой войне в его западном варианте, предполагающей и понятие «священная война», осталось неизвестным ромейским мыслителям [68].
Здесь могла сказаться их заинтересованность в решении в основном теоретических и метафизических проблем. Возможно, свой вклад внесло и более сильное и стабильное государственное устройство, которое воспринималось большинством как должное и не ставило задач серьезных реформ и переосмысления способов гражданского устройства.
В отличие от своих восточных собратьев, жители западной части римской державы лишились своего государства, лишь Церковь хранила единство территорий Империи. Иногда она брала на себя функции поддержания порядка и защиты граждан от разбойников и варварских набегов. Когда же Европа вступила в эпоху королевств, то она взяла на себя роль советника монархов.
Запад лишь изредка вступал в войну с внешним врагом, для раннего средневековья это были еще нехристианизированные германцы, затем викинги, мадьяры и, наконец, мусульмане. Большая часть европейских конфликтов того времени носили внутренний характер, причем римские папы и Западная Церковь все чаще выступали арбитрами таких споров. Соответственно, ученым-клирикам приходилось решать многочисленные вопросы социального устройства общества.
Государственная же власть Византии почти всегда была сильной, и Церковь не ставилась перед необходимостью заменять светские власти или выступать посредником при ее внутренних конфликтах. Поэтому дистанция между священством и военными выдерживалась достаточно четко. Обращение к проблемам управления страной совершалось только в жанре поучения, обращенного к отдельным императорам, и ограничивалось в основном комплексом советов нравственного порядка. Это сказалось и в таком моменте как почти полное отсутствие феномена воюющего духовенства, вызвавшего изумление у Анны Комнины [69].
Недостаток философских рассуждений Церкви на этот счет с успехом восполнялся обширнейшей светской военной литературой, авторами которой выступали профессиональные военные. Сейчас мы не будем отдельно останавливаться на ее описании, отметим лишь то, что весь комплекс вопросов, связанных с теорией и практикой войны, освещен там очень подробно.
Неприятие в Византии идей священной войны в ее августинианском толковании связано с различием восточного и западного понимания греха. Католическая традиция видела в нем юридическое преступление заповеди, предполагая точное определение степени ответственности за него. Поэтому необходимы были четкие критерии, по которым можно было сказать: виновен воин в убийстве в бою или не виновен. Если же не виновен, то необходимо точно выделить причины освобождения от тяжести нарушения заповеди.
Восточная же святоотеческая традиция, понимающая грех как болезнь, не считала возможным точно определять общие критерии виновности или невиновности любого преступления, а лишь его констатировать. Грех при этом остается грехом, даже если светское право не считает его за преступление [70].
Православное каноническое право в этом вопросе дает лишь некий образ для действий священства, однако само решение нужно принимать исходя из особенностей каждого случая. Для определения вины считается главным само намерение и возможность свободного выбора.
Солдат может не иметь злобы на врага и желания убивать, а сделать это по приказу, в таком случае он не может быть признан виновным, но он все равно поражен грехом убийства как некой болезнью (отсюда и «нечистота рук», о которой говорит Василий Великий). Война в таком понимании — это хроническое заболевание человечества, периодически переходящее в острую стадию. Если же война — это болезнь, как же можно к ней добровольно стремиться и гордиться?
Это помогает понять, почему ромеи просто не могли осознать многие мотивы западных рыцарей, отправившихся в столь дальний поход, «вооруженное паломничество» [71], ради идеи освобождения Святой Земли. Как замечает