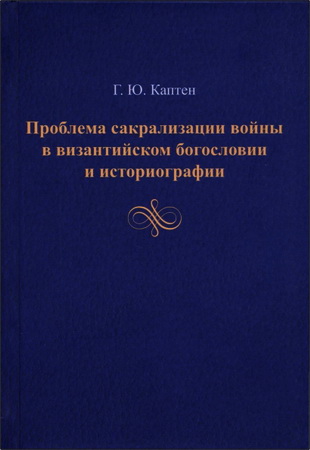Дж. Деннис, для них святым городом был сам Константинополь, не только Новый Рим, но и Новый Иерусалим [72].
Эта мысль пронизывала византийскую культуру и нашла отражение в многочисленных элементах дворцового церемониала, ведь реальным главой страны считался Христос, а император лишь его заместитель, сидящий на левой половине двухместного трона.
А.М. Лидов совершенно справедливо замечает: «Константинополь мыслился как святой град, Второй Иерусалим — ожидаемое место Пришествия. Именно так он описывается средневековыми паломниками, которые двигались в городе от святыни к святыне как в некой пространственной иконе, священный смысл которой был гораздо важнее архитектурно-археологических реалий… Речь не идет о прямом копировании, но о стремлении перенести и пересоздать образ особо почитаемого сакрального пространства, который, подобно реплике с чудотворной иконы, обеспечивал более тесную связь с высшим первоисточником — пространством Горнего Града, иконически воспроизведенного в зримых реалиях Иерусалима и Константинополя» [73].
Эта мысль прекрасно выражена в речи одного византийца, отговаривавшего сына от намерения отправиться в паломничество в Палестину: «Христос прославился в Иудее, но он присутствует и среди нас. Там гробница Господня, но у нас пелены и плащаница. Там место Краниево, но крест с подножием здесь, здесь предлагаются и венец с терниями, губка, копье и трость… Неописываемое… запечатленным на полотне и отображенным на черепице… Это место, мой сын, есть Иерусалим, Тивериада, Назарет, гора Фавор, Вифания и Вифлеем…» [74]
Кроме многочисленных реликвий и пребывания императора, еще одним подтверждением особой святости Константинополя были почти осязаемое ромеями присутствие Бога и святых, сохраняющих его во время вражеских осад.
Многочисленные церемонии, имевшие одновременно и чисто религиозное и государственное значение, всячески воспитывали в ромеях убеждение, что Константинополь намного лучше выражает суть Небесного Иерусалима, чем его обветшалое отображение в столице Земной Палестины. Поэтому необходимо сосредоточиться на защите имеющегося святого града, а не на завоевании иного.
Как замечают многие исследователи, в Западной Европе в период Средних веков существовало два основных подхода к войне, которые прекрасно осознавались современниками. К первому типу относилась «guerroyable», «guerre (от германского “werra”) loyale» — «честная война», ведущаяся между благородными христианами в соответствии с «droituriere justice d’armes» («прямым правом оружия») или «discipline de chevalerie» («рыцарской наукой»).
В такой войне рыцари, как правило, мерялись силой между собой, соблюдая необходимые условности и правила. Убийство врага не ставилось целью и было «побочным эффектом», упор был именно на плен или обращение в бегство противника. Соответственно, и смертность на полях этих конфликтов была не высокой (хотя, как указывает в своей статье Д. Уваров [75], летописные указания на конкретные «малокровные» битвы, вроде Таншбре (1106) или Бувине (1214), вполне могут быть искусственно занижены ради демонстрации их «рыцарственности»).
Отчетливо ритуализированный подход к военным действиям сближал их с понятием судебного поединка. По обоюдному убеждению всех действующих лиц такой способ был прямым узнаванием божественной воли и, следовательно, доказательством своей правоты. После же правоты сторон происходил передел собственности [76].
Второй же тип обозначался понятием bellum или mortelle — войны между государствами на уничтожение, на которой были допустимы все приемы военной хитрости, убийство пленных и истребление спасающихся бегством. В условиях Западной Европы этот тип встречался сначала лишь в противостоянии неверным в Испании или Святой Земле, лишь потом появившись в борьбе с еретиками (альбигойские и гуситские войны) и в обострении межклассовой вражды рыцарства и городского ополчения.
Менее известен тот факт, что подобное разделение прослеживалось и в эпоху Античности. Греки классического периода различали πόλεμος — собственно войну, противостояние варварским народам, с которыми можно сражаться любыми способами, и στάσις — букв. «раздор», «распря», «несогласие», употреблявшийся для обозначения гражданских междоусобиц и войн между полисами. Во втором случае существовали негласные принципы «достойных методов», а сами сражения проводились «правильным образом».
Иногда мотивы στάσις-guerre мелькают и в Византии, так, Анна Комнина пишет об одном из конфликтов ромеев с собирающимися под стенами Константинополя крестоносцами: «…Кесарь, с опытными лучниками расположился на башнях, чтобы обстреливать варваров… Но, глядя на латинян… он при всем своем искусстве, хотя и натягивал лук и прилаживал стрелу к тетиве, однако, уважая святость дня и храня в душе приказ самодержца, нарочно метал стрелы не целясь, то с недолетом, то с перелетом» [77].
Однако чаще всего подобной «роскоши» Империя позволить себе не могла, и практически все конфликты с ее участием имели более-менее ярко выраженные черты mortelle. Единственными заслуживающими особого уважения и «правильного строя» противниками, кроме других ромеев, признавались персы, но и в борьбе с ними считались достойными любые хитрости или применение, если необходимо, особо жестоких мер.
Соотносятся ли византийские методы защиты с принципами справедливой войны? Если не принимать в расчет гражданские войны между претендентами на трон, их вела законная власть; целями их были, за крайне редким исключением, защита границ или отвоевание принадлежавших империи ранее территорий.
Правило же исключения из военных действий невоюющего населения соблюдалось крайне редко. Византийские полководцы не чуждались захватом в плен местного населения, живущего за пределами условных границ страны, случалось, что они требовали выкуп от жителей осаждаемых городов, а после штурма отдавали их на разграбление воинам со всеми сопутствующими последствиями. Наконец, они опустошали местность, нанося урон посевам, угоняли скот, подвергая граждан соседних стран угрозе голода и лишений.
Однако следует помнить, что ровно так же, если не больше, поступали и противники Византии с населением ее городов и сельской местности. Кроме того, такие действия подрывали экономическую силу врагов, косвенно уменьшая угрозу ромеям.
Поэтому оценка таких действий разнится — с позиции современных законов и провозглашаемых даже самими ромеями идеалов они поступали несправедливо. В глазах писателей того времени эти меры были оправданны, хотя и жестоки, но никто из них принципиально не мог назвать их «священной войной». Вооруженное насилие не могло быть в их глазах священным.
Еще одной важной богословской причиной отвержения теории священной войны стало, по мысли Т. Колбабы [78], принципиальное отвержение учения об индульгенциях.
В свою очередь эта идея базируется на особенностях средневекового католического учения об оправдании. В приложении к проблеме священной войны оно приобретает форму следующих рассуждений:
Человек не может не грешить в своей повседневной жизни. Даже если избегать греховных действий, мирскому человеку практически невозможно удержаться от злых слов и мыслей. Для помощи человеку дается таинство Исповеди, в котором эти грехи прощаются. Однако влияние тяжелых, а особенно смертных, таково, что они усиливают предрасположенность к их повторению. Поэтому кающийся уже не может приступать к Исповеди с необходимой для него степенью раскаяния.
Выходом из этого порочного круга становится помощь особых, «сверхдолжных»,