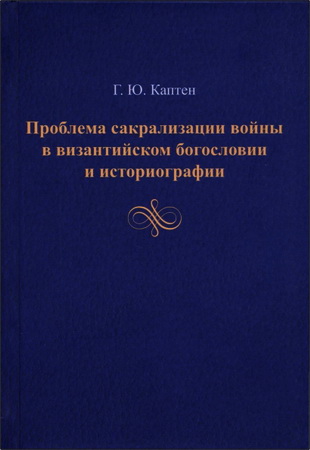заслуг святых, которые помогают искренне раскаявшемуся христианину, но остающемуся слишком слабым для предотвращения следующего греха. Для их привлечения необходимо совершить особый духовный подвиг — епитимию. Совершение этого подвига во многом зависит от сословной принадлежности человека. Клирик может совершить его через особые молитвы, переписывание книг и пр. Для мирянина таким делом может стать постройка храма, паломничество или помощь в его совершении другим, поддержка бедных или что-нибудь подобное. Что же делать воинам, которые постоянно грешат и не могут не грешить в силу своего занятия?
Ответ будет вполне логичным — они должны превратить свое ремесло в благочестивое занятие. Например, защищать с оружием в руках паломников на их долгом и полном опасности пути или защищать храмы от грабежа и осквернения разбойниками. От этой мысли остается сделать только один малый шаг к следующему — вести войны ради праведных целей.
Гвиберт Ножанский, автор Монтекассинской хроники, живший во второй половине XI — начале XII века и заставший триумф Первого крестового похода, размышляя о войнах, выделяет в них особый тип: «Бог создал в наше время священные войны для того, чтобы рыцари и толпа, бегущая по их следу… могли найти новые пути к обретению спасения. И таким образом, они не должны полностью удаляться от мирских дел, уходя в монастырь или выбирая другую форму церковного служения, как это было раньше, но могут удостоиться в какой-то мере Божественной благодати, продолжая заниматься своим делом с той свободой и с тем внешним видом, к коим они привыкли» [79].
Ему вторит Бонизо Сутрийский, считавший войну с еретиками и схизматиками естественным состоянием государства, поскольку иначе воинское сословие окажется лишним в христианском государстве [80].
Для средневековой Европы эти выводы оказывались вполне логичными и правильными. В Византии же «экспорт» концепции священной войны оказывался невозможным, потому что был лишен той почвы, на которой сформировался на Западе.
Ромейский автор просто не мог сказать, подобно западному, что война есть удел славных мужей и достойное поприще для благородных рыцарей. Да и классических сословий, включающих и «bellorum» — «воюющих», в Византии не было.
Историк Агафий Миренейский, в противоположность своим западным коллегам, рассуждает: «Причиной войн, полагаю, не являются, как говорят многие, движения звезд или судьба и противный разуму рок. Если бы предначертанное судьбой торжествовало во всем, то была бы отнята у людей свободная воля и право выбора, и мы считали бы напрасными и бесполезными всякое наставление, искусства и обучение: оказались бы беспомощными и бесплодными надежды людей, живущих наилучшим образом. И Божество, как думаю, нельзя полагать причиной убийств и сражений. Я и сам бы не сказал и не поверил бы никому, утверждающему, что высшее благо, изгоняющее всякое зло, радуется сражениям и войнам. Души людей добровольно впадают в корыстолюбие и несправедливость и наполняют все войнами и смятением, и отсюда происходят многие бедствия и гибель народов и порождаются бесчисленные другие несчастия» [81].
Это мнение разделяет и Лев VI, в своей «Тактике» прямо называя войну изобретением дьявола, не делая различения на справедливые и несправедливые конфликты.
Еще более важна, на наш взгляд, другая причина, связанная с довольно четким ощущением византийцами разницы между Божиим «волением» и «попущением». Подробное рассмотрение этих концептов выходит за рамки данной работы, поэтому придется ограничиться лишь кратким описанием. Понятие «воление» (θέλημα, βουλὴ) использовалось для описания непосредственного желания Бога по осуществлению той или иной вещи.
Так, по словам ап. Петра, Господь «не желая (βουλόμενος), чтобы кто погиб, но [хочет] чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9). Ап. Павел также говорит, что «Бог, желая (θέλων) показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели» (Рим 9:22).
Классическим примером служат слова св. Максима Исповедника в диспуте с Пирром: «Волей (θελήματι) до Своего воплощения создал все из не сущего, и поддерживает, и промыслительно опекает, и спасительно руководствует» [82].
Глагол же «попускать» или «допускать» (̔εάω) использовался для описания мнения, что Бог, уважая свободу людей, не вмешивается в историю, давая возможность человеку принять собственное решение. Так, ап. Павел говорит, что Бог «в прошедших родах попустил (ἐίασε) всем народам ходить своими путями» (Деян 14:16), а в посланиях добавляет: «Верен Бог, Который не попустит (ἑάσει) вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13).
Византийцы всегда говорили о том, что войны попускаются Богом, но ни в коем случае не желаемы Им. Следовательно, выход солдата на поле боя также не входит в Божественный замысел, а является следствием общей падшести мира. Даже если ход истории часто заставлял ромеев (а иногда даже клириков) брать в руки оружие, мнение, что Бог желает ратного подвига ради веры, в их глазах было на грани богохульства [83], противоречащей основам восточно-христианского богословия мыслью о желающем греха Творце.
Не следует забывать и то, что титул «защитник веры», который принимали на себя многие правители Западной Европы, Византии был практически не знаком. Намного чаще упоминается о долге императора защищать справедливость, жизнь и благополучие своих подданных.
Объяснить это можно, если вспомнить, как много было в истории Византии гражданских войн. Слишком многие перевороты происходили именно под лозунгом защиты тех или иных религиозных фракций. Логично предположить, что чрезмерное подчеркивание идеи «защиты веры» могло сыграть роковую роль в судьбе самого венценосного автора.
Хорошим примером этого стало правление Ираклия и его преемников. Этот император, активно позиционировавший себя как защитник христианства, спаситель Истинного Креста от рук персов-огнепоклонников, столкнулся в конце жизни с оппозицией, провозглашенному им богословию моноэнергетизма, и уже в середине 40-х годов произошел мятеж экзарха Карфагена Георгия как раз под лозунгом защиты православного учения против еретика-императора Константа II.
Поэтому более для правителей выгодным было оставаться «всего лишь» защитником справедливости, обосновав ею свои военные действия не только против внешних врагов-иноверцев, но и внутренних мятежей. Лишь особые причины, которые мы будем рассматривать отдельно уже в историческом ключе, привели к тому, что в период с VII по IX век императоры стали активно включаться в богословские споры.
Э. Калделлис, в достаточно спорной, но интересной работе «The Byzantine Republic. People and Power in New Rome» проводит мысль, что Византия, сохранившая в своей системе власти многие черты республиканского характера, не допустила абсолютного отождествления воли Бога и желаний императоров. Идея непосредственной божественной власти над страной не обязательно означала сакрализацию конкретного правителя. Император, грубо говоря, хотя и являлся «иконой Христа» (по меткому выражению С.С. Аверинцева), но так и не мог стать Самим Христом.