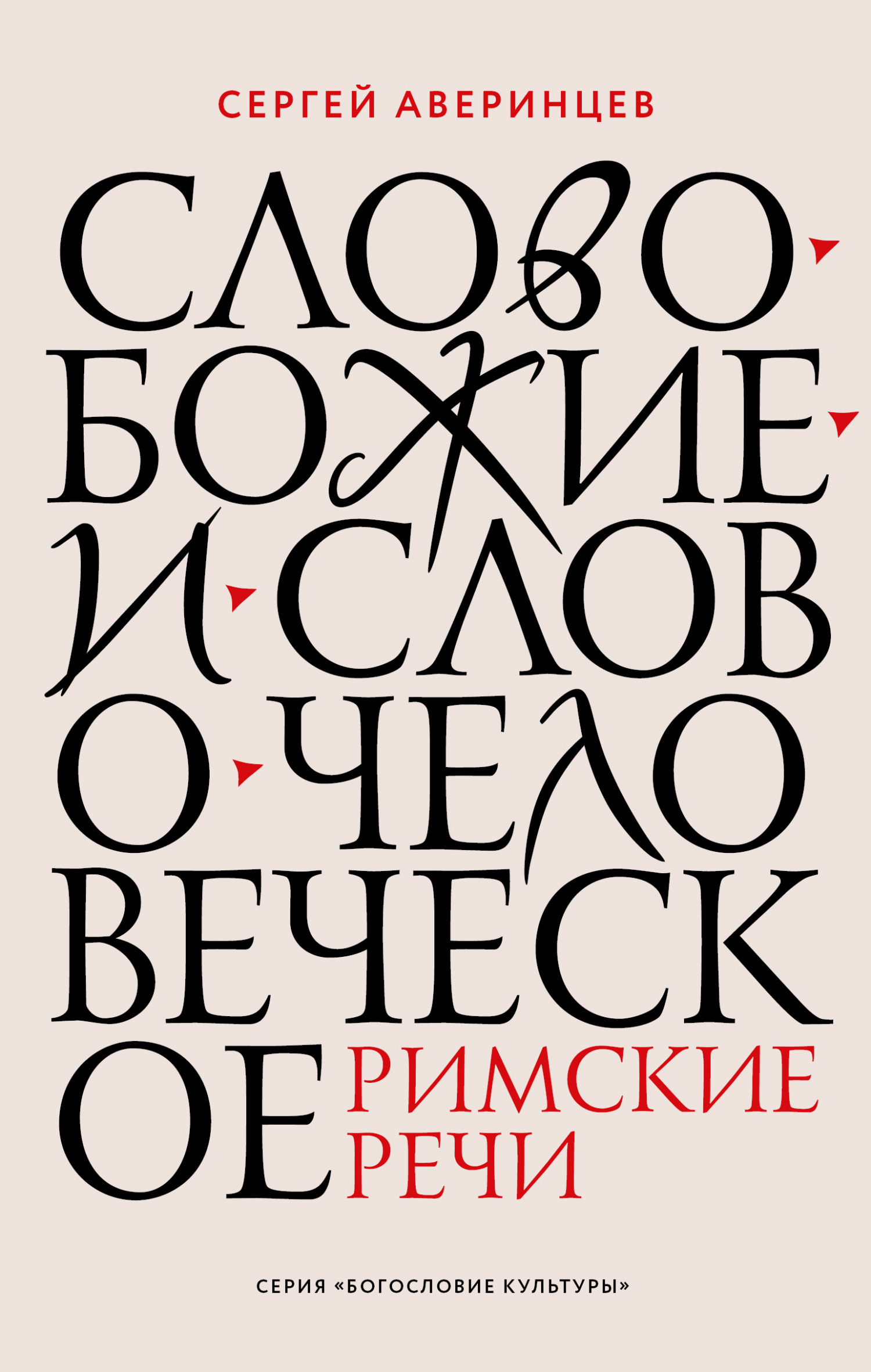обличению:
вот, я изолью на вас дух мой,
возвещу вам слова мои…»
(Притч. 1: 20–23.)
Не премудрость ли взывает,
и не разум ли возвышает голос свой?
Она становится на возвышенных местах,
при дороге, на распутиях;
она взывает у ворот при входе в город,
при входе в двери:
«к вам, люди, взываю я,
и к сынам человеческим голос мой…»
(Притч. 8: 1–4.)
Этот мотив возвращается снова и снова. Сам по себе образ публичного, настойчивого призыва внимать добрым советам здравого смысла как будто снижается до категории тривиальной персонификации. В «сапиенциальной» литературе, дидактической по самой своей сути, все время слышится поучающий голос, например, отца к детям (Притч. 1: 8 слл; 2: 1 слл; 3: 1 слл, 3: 21 слл, 4: 1 слл; 4: 20 слл, 5: 1 слл; 5: 7 слл; 6: 1 слл и проч.), матери к сыну (Притч. 31: 2–8); голос Премудрости возможно понять как метафорическое обобщение всех вообще родительских и наставнических голосов, как бы сливающихся в один голос. Отметим одно: если это метафорический образ, в нем есть один ощутимый момент парадокса. Как по-русски и по-славянски, как по-гречески и по-латыни, Премудрость и по-еврейски обозначается существительным женского рода ḥokmā, или, в форме pluralis maiestais, как Притч. 1: 20, ḥokmot. Но для персонажа женственного ее поведение в необычной мере публично: она появляется не в укрытии дома, но при дороге, на распутиях, на улицах и площадях, у городских ворот. В таких местах выступают персоны, чье бытие публично по самой сути вещей: цари, судьи, пророки, – но из женщин – блудницы. В той же Книге Притчей мы читаем о распутной женщине: ноги ее не живут в доме ее: то на улице, то на площадях, и у каждого угла… (7: 11–12). Премудрость созывает и приглашает к себе всех, кто ее слышит (например, 9: 4–5); но и блудница зазывает к себе. Парадоксальная параллельность внешних черт ситуации явно осознана и подчеркнута: блудница соблазняет юношу тем, что не далее как сегодня заколола по обету жертву šəlāmim, а потому имеет в доме достаточно мяса для пира (Притч. 7: 14), – но Премудрость также заколола жертвы (буквально: «заколола заколаемое», 9: 2), приготовила вино и теперь зовет на пир (9: 5). Публичное явление Премудрости – и публичное явление блудницы; жертвенный пир Премудрости – и жертвенный пир блудницы, – всюду симметрия, не приглушенная, но заостренная ради некоего важного контраста. Но о смысле этого контраста, как и вообще о функциях образа жены чуждой (ʔіššā zārā, см. 2: 16), придется говорить подробнее.
А пока вернемся к Премудрости. Возразим на только что сделанное предположение: если учительство Премудрости можно понять как дидактическую персонификацию, ее собственные слова о ее космической, демиургической роли выходят за пределы такой персонификации. Вспомним прежде всего locus classicus [61] – Притч. 8: 22–31:
Яхве имел меня началом пути Своего,
прежде созданий Своих, искони;
от века я поставлена (другой перевод: «помазана»),
от начала, прежде бытия земли.
Я родилась, когда еще не было бездны (təhomot),
когда еще не было источников, обильных водою;
я родилась прежде, нежели устроены были горы,
прежде холмов,
прежде, чем Он сотворил землю и долы,
и начальные крупицы вселенной (tebel),
когда Он утверждал небеса, я – там,
когда Он чертил круг по лицу бездны (təhom),
когда Он укреплял облака в выси,
когда устанавливал источники бездны,
когда давал морю предел,
дабы воды не преступали уставов Его,
когда полагал основания земли,
тогда я была при Нем художницею,
и была веселием каждый день,
непрестанно радуясь пред лицем Его,
радуясь на земном кругу Его,
и веселие мое – с сынами человеческими.
Описание Премудрости в девтероканоническом тексте также не умещается в пределы нормального понятия о персонификации: она описывается как πνεῦμα νοερόν («умный дух») – для эллинистического греческого языка термины достаточно ответственные. «Она есть дух умный, святой, единородный, многочастный, тонкий, подвижный, проницательный, неоскверненный, ясный, нетленный, благолюбивый, быстрый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, незыблемый, неколебимый… за всем надзирающий и проходящий все умные, чистые, тончайшие сущности. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по причине чистоты своей сквозь все проходит и проникает. Ведь она есть дыхание силы Бога и чистое излияние славы Вседержителя: потому ничто оскверненное не войдет в нее. Ведь она есть отблеск вечного света и незамутненное зеркало энергии Бога, и образ благости Его. Будучи одна, она может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя сообразно поколениям в праведные души, приготовляет друзей Бога и пророков» (Прем. 7: 22–27).
После известной книги Гельмера Рингрена «Word and Wisdom» (Лунд, 1947) многократно обсуждался вопрос: можно ли говорить о «гипостазировании» Премудрости в Книге Притчей?
Нам представляется, что вопрос поставлен не вполне корректно. Отнюдь не желая играть словами, спросим, однако, в ответ: как выразить понятие «гипостазирования», хотя бы приблизительно или описательно, на еврейском языке Книги Притчей? Мы не смогли бы передать это понятие даже на греческом языке девтероканонических авторов.
Вопрос о словесном выражении не праздный; стабильный статус термина может отставать от сознания проблемы, но борьба за термин начинается с этим осознанием. Вспомним, с каким напряжением, ломая семантическую инерцию, преобразуя прежний смысл слова, христианская догматическая мысль IV века творила термин для передачи нужного ему понятия «ипостаси». Как и вообще в античном бытовом и философском узусе, так и в Септуагинте (например, Прем. 16: 21), слово ὑπόστασις еще чрезвычайно далеко от своего будущего христианско-доктриального значения. Термин «лицо» в своем «персоналистском», философско-теологическом смысле тоже чужд библейскому обиходу – обороты вроде «пред лицом» или «лицом к лицу» имеют в виду нечто совсем, совсем иное. «Персоналистская» терминология в тринитарных спорах («Единый Бог в Трех Лицах») долго представляла затруднения – потому и потребовался термин «ипостась».
Воздержимся при разговоре о Книге Притчей от вопросов: «гипостазируется» Премудрость или нет, «ипостась» она или не «ипостась», «лицо» или не «лицо». Ограничимся внутрилитературной констатацией: если она и не «лицо», она – «персонаж», подлежащий изучению в качестве такового. Она больше, чем метафора, больше, чем «фигура речи». Будем говорить просто о «фигуре», имея на границе умственного поля зрения христианский термин praefiguratio («прообразование»).
Мы не будем обсуждать и возможные языческие прототипы Премудрости в Книге Притчей. Упомянем дискуссии, вызванные попытками проследить историю архетипического образа богини мудрости и