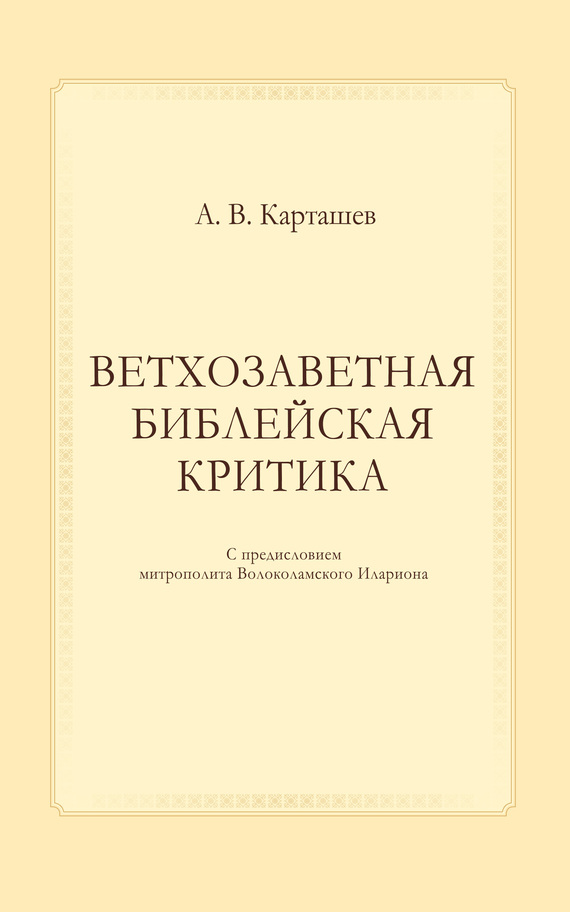тогда вообще Бог есть автор всего доброго в мире. И тогда эта формула как слишком общая ничего в данном вопросе не разъясняет. Формула, что Бог есть causa principalis [20], а писатель священной книги – causa instrumentalis [21], является либо пересказом указанной общей неопределенной идеи о Боге как источнике добра, или формула хочет уяснить первую острую тезу об авторстве Самого Бога. В таком случае она выявляет порочность самой тезы. Именно она навевает мысль как бы о «диктате с неба» и механической записи продиктованного. На эту магическую идею сбивались ранние христианские писатели. Иустин Философ уподоблял богодухновенность действию смычка на цитре (Cohort, с. 8) и Афинагор – вдуванию звуков во флейту. Но когда Монтан припугнул всех языческим автоматизмом своего лжепророчества, то мысли о такой инструментальности священных писателей почти бесследно исчезли со страниц святоотеческих творений. Наоборот, у отцов многократно развивается идея ясной, здоровой, полной и свободной деятельности ума и сознания библейских авторов в моменты их богодухновенной работы. Вот типичное рассуждение об этом Василия Великого в предисловии к комментарию на Исайю: «Некоторые говорят, что пророки пророчествовали в исступлении, так что человеческий ум затмеваем был Духом. Но противно самому назначению наития – делать богодухновенного исступленным, так, чтобы он, когда исполняется Божественных наставлений, выходил из свойственного ему разума и, когда приносит пользу другим, сам не получал никакой пользы от собственных своих слов. И вообще, сообразно ли сколько-нибудь с разумом, чтобы Дух Премудрости делал кого-либо подобным лишенному ума и Дух ведения лишал разумности?
Свет не производит слепоты, а, напротив, возбуждает данную от природы силу зрения. Так и Дух не производит в душах омрачения, а, напротив того, возбуждает ум, очищаемый от греховных скверн, к созерцанию мысленного. Что лукавая сила, злоумышляющая против человеческой природы, может производить в мыслях замешательство, в этом нет ничего невероятного. Но нечестиво утверждать, чтобы то же самое действие производило присутствие Божие» (Comment. in Isaiam. P.G. XXX с. 121, 124–125). Так же рассуждали блаженный Иероним, святитель Епифаний Кипрский и другие.
Нельзя ссылаться на второй стих 44 псалма – «язык мой – трость книжника скорописца» в доказательство «диктата с неба» и автоматичности библейских писателей, ибо это сказано в порядке псалмной, стихотворной поэзии. Это условный метафорический язык, как и у нынешних поэтов, образно описывающих психологию творческих моментов в виде восприятия голоса муз и богов. Эта самохарактеристика поэтов интересна нам тем, что она указывает на то место и на ту роль в естественном творчестве, какие может занять действие Духа Божия у писателя священной книги, ничуть не урезая и не подавляя его нормальной психики. Все человеческое в нем функционирует полностью и лишь обогащается невесомым, духовно преображающим додатком. Мысль о диктате с неба нелепа уже потому, что слишком часто в библейском тексте бросаются в глаза немощные, дефективные черты человеческой литературы. Например, не менее трети Библии написано стихами, часто плохими стихами, на наш взгляд, с вычурной игрой в акростихи. Многие авторы брали в основу своих книг легендарные полуфантастические истории (Эсфирь, Иудифь, добавления к Даниилу, поучительные романы, повесть об Ахикаре в книге Товит). По меньшей мере неумно все эти человеческие черты и материи возводить к внушениям Духа Святого.
Вот поскольку и святоотеческая мысль утвердила положение о полноте действия естественной человеческой психики и об отражении ее в самих писаниях священных авторов, постольку догматически оправданы и узаконены и те методологические операции над текстом и содержанием Библии, которые требуются научным знанием. Критическая работа тут уместна потому, что она прилагается к подлежащему ее ведению человеческому элементу: он здесь полностью дан. Дан, ибо Библия есть не только слово Божие, но и слово человеческое в их гармоническом сочетании, точнее – слово богочеловеческое. Наше обычное выражение «слово Божие» догматически бесспорно, но неполно, как и выражение «Иисус Христос – Бог» верно, но неполно; точнее – «Богочеловек». Стало быть, формула «Бог – автор священных книг» должна звучать как монофиситский уклон в сторону от нашего халкидонского Православия. Таким же уклоном было бы и исключительное держание за одно только выражение «слово Божие». С лозунгом: «слово богочеловеческое» мы утверждаемся на незыблемой скале Халкидонского догмата; это чудесный ключ, открывающий путь к самым центральным спасительным тайнам нашей веры, и в то же время это благословение на безгрешное построение в Православии критического библейского знания. Конечно, рассуждаем мы здесь не по тождеству, а лишь по аналогии с христологическим догматом, ибо тут нет боговоплощения, здесь лишь сосуществование человеческого начала с божественным. Здесь без ереси уместны формулы антиохийского богословия: обитание Духа Божия в человеческой оболочке слова библейского, как в храме, без неслиянной и нераздельной ипостасности.
Эту нашу руководящую идею о богочеловеческом характере библейского слова нам отрадно было, по справке, встретить у авторитетного отечественного догматиста, преосвященного Сильвестра [22]. Вот его слова: «Это нравственное сближение Духа Божия с духом пророков так было внутренне и глубоко, что в нем нельзя не примечать некоторой аналогии с тем объединением Божеского и человеческого, которое явилось в лице Иисуса Христа через принятие естества человеческого в ипостась Божества…
И если пророк открываемое Духом Божиим высказывал свойственным ему языком человеческим и под ограниченными образами доступных его сознанию представлений, то это не препятствовало ему сознавать, что он высказывал здесь не свои мысли, а мысли Божии, не свои личные слова, а слова Господни.
Таким образом, богодухновение пророческое было действием Божиим, в некотором отношении похожим на воплощение или вочеловечение Бога Слова в лице Иисуса Христа, а именно было действием непосредственного снисхождения Духа Божия к тем из людей, которые по степени своего нравственного развития способны были к тому, чтобы воспринять Его откровение и быть органами его и носителями (2 Петр 1, 21). И это снисхождение Духа Святого к святым Божиим людям ничуть не сопровождалось для них оцепенением или омертвением их душевных сил, а, напротив, их личное сознание от этого становилось еще несравненно более прежнего светлым, широким и глубоким, сохраняя при этом даже все свои личные особенности в образе понимания и представления вещей» (Еп. Сильвестр. Догматическое богословие [23]. I, с. 286–287. Киев, 1884 г.).
Вот эти-то «личные особенности в образе понимания и представления вещей» у писателей и редакторов священных книг и составляют то чисто человеческое начало, с его ограниченностью и возможностью всяких внешних недостатков и ошибок (не касающихся существа догматов), которое органически входит в состав Священного Писания как «слова богочеловеческого», как откровения Божия, воплощенного в естестве человеческого литературного творчества и посему достойно и праведно измеряемого и изучаемого