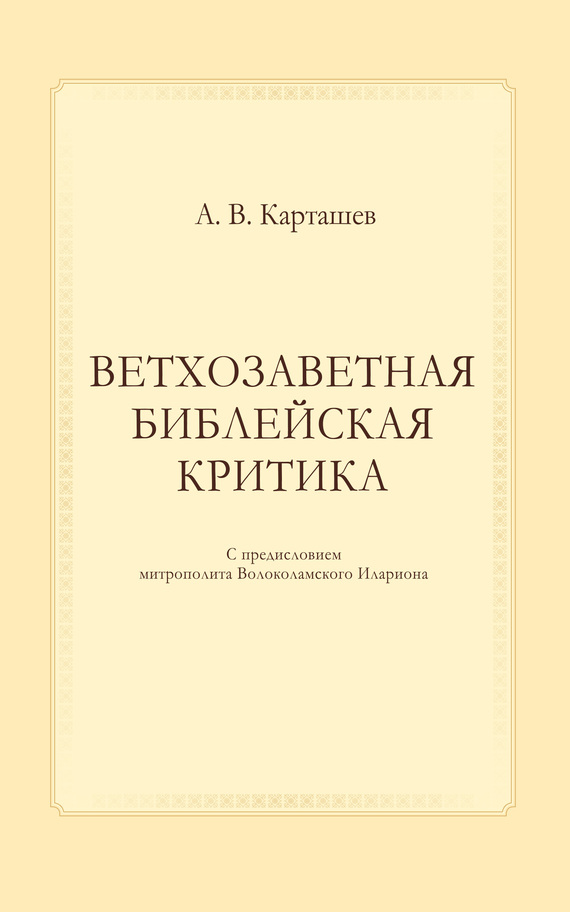суженном и сжатом круге сравнительно с обширным кругом разнообразных научных, школьных и личных богословских мнений и суждений, так точно и сфера церковного Предания, безусловно и догматически обязательного, должна мыслиться тоже в некоем минимальном круге символьных положений. Все другие циклы разнородных преданий в церкви должны располагаться около этого основного стержня нашей веры в виде концентрических кругов разного достоинства, разной силы и обязательности, переходя затем к кругам преданий и совсем необязательных, временных, местных, условных, спорных и даже дефективных. Увы, и здесь не избежать той же категории релятивизма, как ни досадно это кажется приверженцам упрощенного приема: рубить с плеча от имени Предания по всякому суждению, которого не слыхали, к которому не привыкли, которого не изучали.
Итак, при наличии всех этих оговорок, пред нами все тот же вопрос о символическом, преобразовательном смысле Ветхого Завета, который мы безусловно догматически исповедуем, которым мы буквально дышим во всем нашем богословии, во всей святоотеческой литературе, во всем богослужении, во всем молитвенном благочестии. Как же мы должны богословски-научно осмысливать его, совмещая с историко-критической, археологически-буквальной экзегезой?
Еще в ветхозаветной иудейской церкви в послепленную эпоху начали употребляться символический (= типологический) и аллегорический методы истолкования древней священной письменности. О том свидетельствуют самые ранние раввинистические толкования, так называемые мидраши. Особенно сильное и исторически доказуемое влияние в этом направлении на иудейство оказала эллинская ученость в александрийском центре иудейской диаспоры. Античная философия и филология еще с V в. до Р. Х. создали аллегорический метод для осмысливания мифов народной религии. Иудейские писатели в Александрии, начиная с III века (Аристовул, Аристей и другие), воспользовались этим методом для того, чтобы в понятном и наиболее симпатичном для эллинов духе представить все религиозные и бытовые доктрины израильского народа. Особенно в этом отношении прославился александрийский иудей Филон, современник Иисуса Христа. Его иносказательный, аллегорический, философски свободный, до фантастичности произвольный метод истолкования всего Ветхого Завета не нашел себе прямых, буквальных подражателей в иудейском богословии, но оказал глубокое, длительное влияние на все века древнехристианской святоотеческой письменности, особенно у наследников в том или ином объеме александрийской богословской школы: Климент, Ориген, св. Кирилл, свв. Каппадокийцы, Ареопагитики, св. Максим и т. д.
Не только александрийская ветвь иудейства новозаветной эпохи, но и палестинская раввинская экзегеза и палестинское богословие (= начало Талмуда) усвоили себе, так сказать, из общей атмосферы восточной эллинистической культуры аллегорическую и типологическую манеру истолкования библейских текстов. Отсюда взяла свое начало специфически аллегорическая ветвь раввинистической литературы, так называемая Каббала. Как свидетельствует школа, пройденная апостолом Павлом, аллегория и типология были общепринятыми экзегетическими приемами во всех решительно раввинских школах новозаветной эпохи, а не только в александрийском районе. Потому и все новозаветные авторы пользуются указанными методами толкования ветхозаветных мест как самыми привычными и общепринятыми в среде благочестивого Израиля.
Таким образом, с формальной, методологической, богословско-технической стороны между литературными истолковательными приемами позднеиудейских и раннехристианских авторов в их отношении к книгам Ветхого Завета существует полное сродство и даже тождество, как между ветвями, идущими от единого стержня и корня. Различие лишь в содержании делаемых выводов. Новозаветное откровение вооружило глаз, ухо и сердце христиан-читателей Ветхого Завета новым разумением его тайн, закрывшихся от иудеев «покрывалом» (2 Кор 3, 13–16) их неверия в истинного Мессию. Но и новозаветные авторы и святоотеческие их продолжатели в раскрытии новых заповедей Христова откровения, при всех дарах богодухновенности, полученных Церковью со дня Пятидесятницы, не свободны от чисто человеческих недостатков их личного, по-человечески всегда ограниченного ведения. В средствах и методах чисто научного археологического истолкования ветхозаветной буквы и новозаветные писатели разделяют, вместе с их раввинскими учителями и предшественниками, те или иные недостатки чисто внешнего научного знания. Уровень последнего, доступный нам, есть естественный результат медленного двухтысячелетнего роста его. Иными словами, частичный, строго отграниченный, релятивистический подход к типологической экзегезе новозаветных авторов имеет свое достаточное обоснование. Не по ее абсолютной стороне богодухновенного узрения свыше открытых во Христе тайн, но по ее человеческой, школьно-раввинистической научной технике. Приходится различать евангелистов и апостолов как богодухновенных вещателей, открытых Христом и вверенных Святым Духом хранению всей Церкви абсолютных истин, и тех же Матфея, Марка, Луку, Иоанна, Павла и пр. как учеников ограниченной и дефективной школьно-раввинистической среды. Догматически непререкаемое содержание их учений и истолкований Ветхого Завета по существу не исключает ограниченности их словесной и научной оболочки, почерпнутой из ограниченного, только человеческого источника доступной им раввинистической школы. Отсюда естественный вывод: в толковании догматическом, духовном экзегеза новозаветных писателей связывает нашу церковную совесть абсолютно, в то время как мы остаемся совершенно свободными в критическом научном подходе к их толкованию буквы и историко-фактической стороны библейских текстов. Ограничимся для пояснения двумя-тремя иллюстрациями.
Так, например, евангелист Матфей во 2-й главе делает подряд три цитаты из Ветхого Завета, могущие произвольностью их толкования поразить современного нам рационально настроенного читателя. В ст. 15 евангелист применяет к бегству святого семейства в Египет слова пророка Осии: «Из Египта воззвал Я Сына Моего» (Ос 11, 1), слова ясные по своему буквальному смыслу и по контексту, просто означающие изведение Господом народа Израильского из Египта при Моисее. Далее (ст. 17–18) евангелист видит сбывание пророческого слова Иеремии о плаче Рахили о детях своих (Иер 31, 15) в факте избиения Иродом младенцев Вифлеемских. По букве же книги Иеремии речь идет просто об уводе в плен ассирийский 10 колен израильских и плаче о них Рахили, их общей праматери. Наконец, в ст. 23 рассказ анонимного автора книги Судей (Суд 13,15) о том, что судья Самсон до рождения своего, по слову ангела, наречен был «назореем» (незйр), евангелист толкует как пророчество о том, что младенец Иисус поселяется с родителями в «Назарете» (Нецарет). Ссылаясь вообще на «пророков», евангелист, очевидно, разумеет еще большее созвучие в данном случае с пророческой характеристикой Мессии у Исайи (Ис 11, 1), как «не́цер» – ветвь «от корня Иесеева». Само собой понятно, что в сознании ветхозаветных авторов, написавших все эти места, не было дано тех фактов, которые описывает евангелист. Ветхозаветные писатели говорили именно о тех ближайших, интересовавших их и их израильских читателей предметах, которые и нам ясны из буквального смысла их выражений и всего контекста их речей. И если бы ветхозаветные авторы сами знали будущую новозаветную историю и даже хотели намеренно сообщить ее факты современным им слушателям и читателям, то цель их не была достигнута, ибо те все равно ничего не могли понять и не поняли, как не понимает этого и все иудейство до наших дней, зная до тонкости и лучше нас букву Писания на