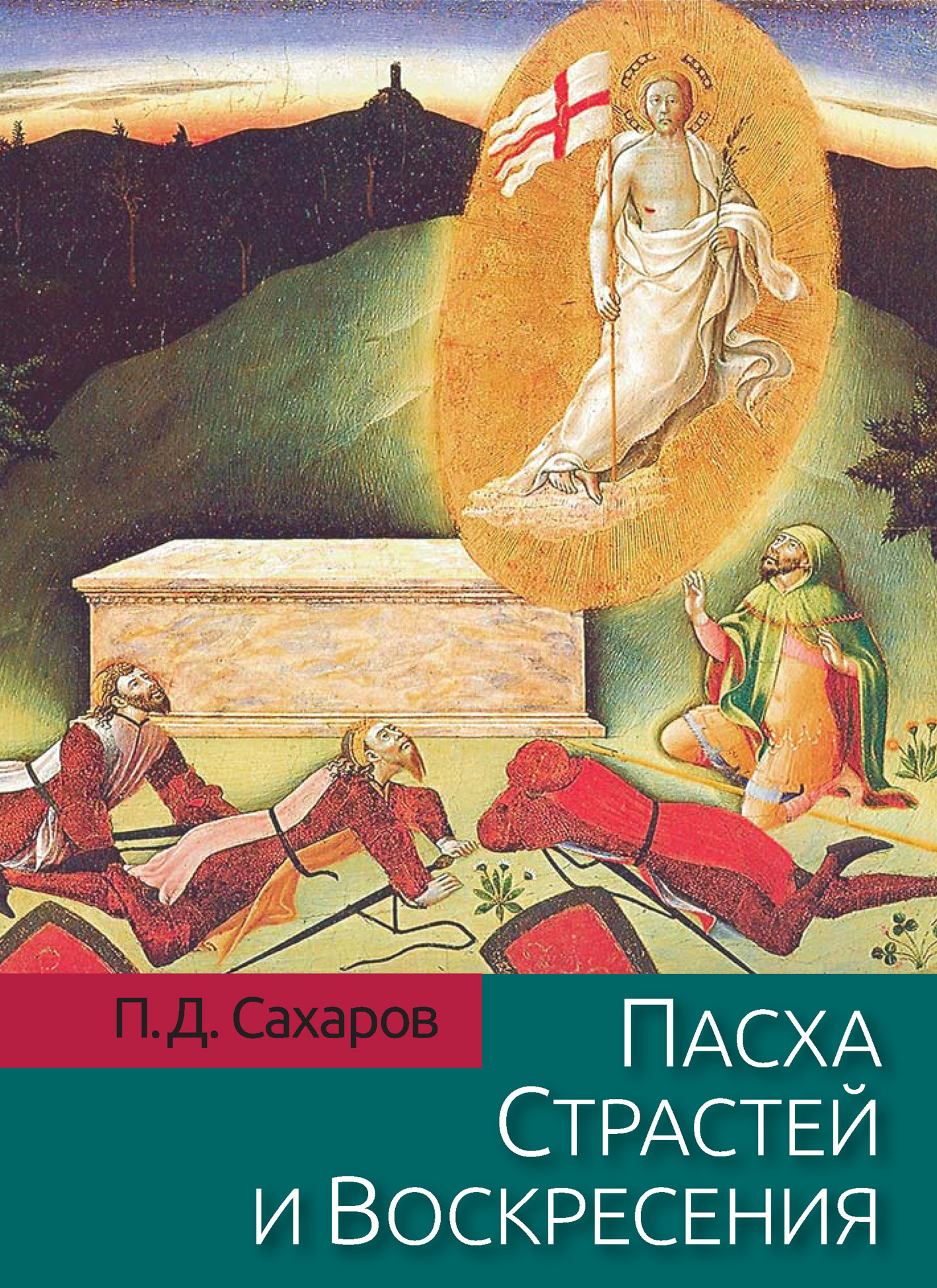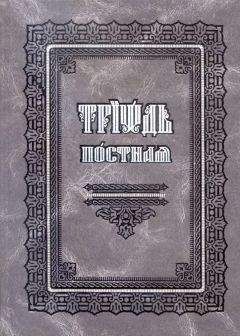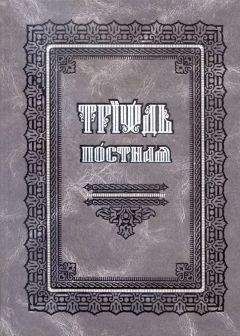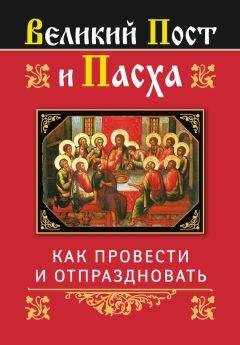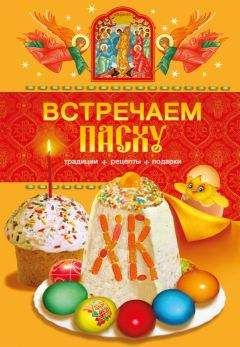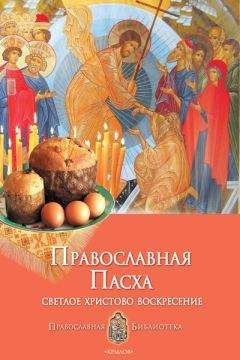Нового и Вечного Завета». Это не юридический союз, но союз любви. Вот почему на всем протяжении Библии фигурирует символизм брака. А Предание всегда тесно связывало таинство брака с таинством Евхаристии.
Бог создал человечество, чтобы сочетаться с ним браком; и сочетается с ним, воплощаясь. Сочетаться браком в самом прямом смысле, то есть ни больше ни меньше как стать с ним одною плотью. […] Известно, что глубокое любовное стремление в браке не останавливается на физическом соединении двух тел, которые остаются внешними, чужими по отношению друг к другу. Любовное стремление – это сплав без смешения, сплав, в котором каждый желает существовать только для того, чтобы быть поглощенным другим, стать в некотором смысле его пищей, плотью от плоти его [31].
Кого-то из читателей может удивить, что монах не стесняется обращаться к языку плотских отношений. Но не будем забывать, что и Божественное Откровение не стыдится подобной образности.
Варийон продолжает:
Символизм поцелуя очень красноречив. Это жест начала вкушения… Хочется вкушать другого и дать ему вкушать себя, чтобы быть плотью от плоти его. Я тебя люблю, и само собой напрашивается: я хочу дать тебе вкусить и поглотить себя, именно ты – мой смысл жизни. Мужчина и женщина не в состоянии осуществить своего любовного стремления, поскольку их тела, являющиеся орудиями их союза, являются, в то же время, препятствием к всецелому единению. Их любовное стремление не может осуществиться, ибо это предполагало бы смерть и в природном, и в историческом измерении. Нужно умереть в этом естестве, которое заставляет нас оставаться чужими друг другу, так что даже моменты наиболее интимного единения не приводят к подлинному всецелому сплаву и длятся только мгновение. Стать действительно плотью от плоти другого, любимого, предполагает смерть [32].
Франсуа Варийон умеет находить удивительно яркие иллюстрации в светской художественной культуре:
Тристан и Изольда в опере Вагнера поют, что они могут познать полноту любви только в смерти. […] Это очень красиво, но в конце концов оборачивается абсурдом, потому что смерть не может быть исполнением любви. Скорее даже, она обнаруживает в любви страшное препятствие. Вот почему здесь глубокое любовное стремление никогда не может осуществиться в полноте. Войти в любовь – значит войти в радость, но также и войти в страдания. Это – неизбежное страдание незавершимости любви. Высочайшее любовное стремление не может быть удовлетворено в плоскости человеческого бытия; там ему противостоит природа человека.
Христос – потому что Он Бог и без греха – способен отказаться непосредственно от Своего природного и исторического бытия. Он способен умереть в мире телесных границ, не переставая быть для человечества Женихом, отдающим Себя. Вот почему по ту сторону смерти (но только по ту сторону смерти) Христос исполняет высочайшее стремление любви. Христос, Который умирает и воскресает, становится Сам пищей, чтобы истинным образом стать плотью от плоти человечества – куда более радикально, чем близость, способная соединить два тела лишь на мгновение. Бог в Евхаристии истинным образом сочетается браком с человеком. В основе Евхаристической Тайны – идея вкушения…
Евхаристия – это ведь не только трапеза, которая собирает и соединяет. Конечно, этот аспект важен, но не существенен. Единение – прежде чем стать единением между людьми посредством вкушаемой пищи – является единением каждого с Христом, Который дает Себя в пищу. И только как следствие Христос объединяет тех, кто Ему приобщается. […] Боговоплощение не ограничивается Христом, но распространяется на всё человечество. […] Вся суть в том, что Бог соединяется или сочетается браком со всем человечеством через Христа. В Евхаристии это дело Христа становится всеобщим [33].
«Блаженны званные на вечерю Агнца»
В конце своего эссе о Евхаристии, фрагменты которого цитировались выше, Франсуа Варийон приводит очередную яркую параллель из области искусства:
Евхаристия, – говорит он, – это Христос, принесенный в жертву, Который как человек всецело устремлен к Богу и как Бог всецело устремлен к человеку. Дерзну сказать, Христос является сопряжением, кристаллизацией этих двух порывов. «Поцелуй» Родена представляет собой одну глыбу мрамора: женщина – это только движение к мужчине, а мужчина – только движение к женщине. Это не более, чем образ, но он может помочь нам понять реальность любви между Богом и человеком. Освященный Евхаристический Хлеб – одновременно и дар человека Богу (т. е. Жертва), и дар Бога человеку (т. е. Таинство). Пределом всего этого оказывается то, что я с уверенность называю нашим обожением, – то есть предмет нашей надежды: наша полная и всецелая свобода в радости. «Хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною» (Ин 17, 24). «Увидим Его, как Он есть» (1 Ин 3, 2) [34].
Евхаристия – всегда эсхатологический прорыв. Оставаясь в том или ином конкретном историческом времени, каждая Евхаристическая Жертва не только устремлена в Царство Божие, но и уже незримо являет Царство Христово среди нас. Пасхальное богослужение, празднующее начало вступления в тайну Восьмого дня, настойчиво подчеркивает это обстоятельство.
Христианами первых веков Евхаристия осознавалась не иначе как начало пира будущего Царства. Слова боговидца «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца» (Откр 19, 9) не ограничивались для них эсхатологической перспективой, а посему немыслим был и добровольный отказ от участия в Божественной Литургии, которая как Трапеза Господня предполагала именно участие посредством причащения, а не просто присутствие.
Тем не менее текст пасхальной Утрени указывает на исключительную евхаристическую значимость богослужения Пасхи. Притом не только дня Светлого Христова Воскресения, но и всех дней Пасхальной недели (известно, между прочим, одно древнее каноническое правило, предписывающее всем верным причащение во все ее дни).
Канон православной пасхальной Утрени пестрит образами трапезы, призывающими верующих к участию в пире Царства – и евхаристическом, и эсхатологическом [35]: «Приидите, пиво (= питие) пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник…»; «Приидите, новаго винограда рождения, Божественнаго веселия в нарочитом дни воскресения Царствия Христова приобщимся…» (т. е. вкусим в этот особенный день воскресения плод нового виноградника, принадлежащего Божественной радости Царствия Христова).
С наибольшей же настойчивостью призывает к участию в брачном пире читаемое в конце пасхальной Утрени Огласительное слово, традиционно приписываемое св. Иоанну Златоусту (ок. 347–407): «Кто благочестив и боголюбив – да насладится этого доброго и светлого торжества! […] Трапеза исполнена – насладитесь все! Телец упитанный: пусть никто не уйдет голодным. Все насладитесь пира веры, все воспримите богатство благости…» [36] («Телец упитанный» – это тот самый, которого велит приготовить для пира отец, радующийся о возвращении блудного сына: