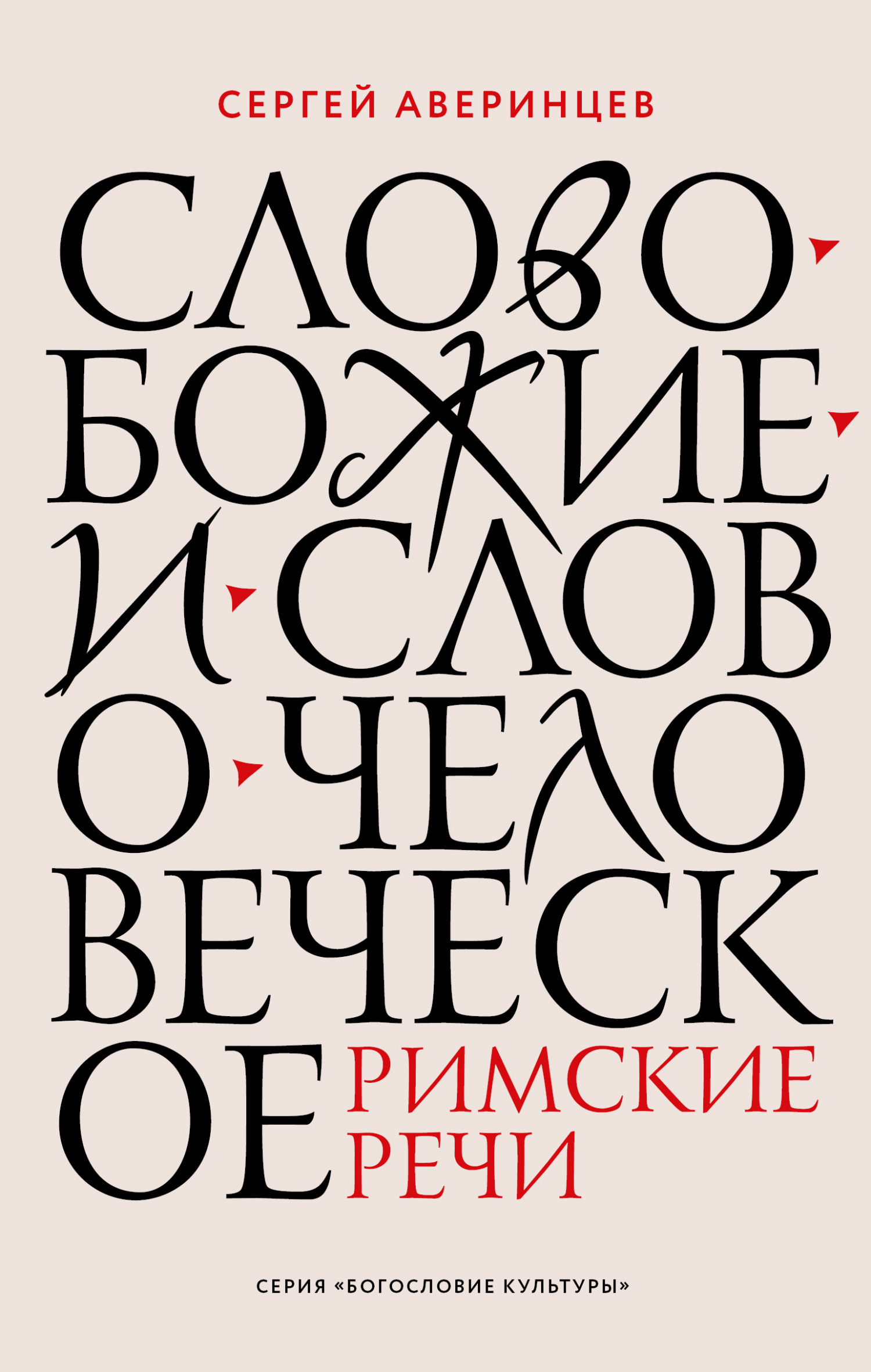близкими понятиями. Во-вторых, аспект игры, веселья, праздничности, констатированный нами выше в облике ветхозаветной Премудрости, очень существен для третьей ипостаси: в тропаре Космы Иерусалимского Святому Духу, начинающемся словами Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε («Царю Небесный, Утешителю…»), эпитет, крайне неточно переданный в традиционном переводе как «жизни Подателю», на самом деле звучит в подлиннике как ζωῆς Χορηγός, т. е. «Хороводоначальник жизни», «Хорег жизни», – так что Святой Дух описан здесь как некий христианский аналог Диониса, как предводитель вселенской пляски [184]. Премудрость, которая была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время, веселясь на земном кругу Его (см. выше), имеет самое близкое касательство к тому «хороводу», который ведет Параклит. Следует, наконец, иметь в виду и общую пневматоцентрическую окрашенность восточного христианства в отличие от христоцентрического характера христианства латинского.
Но каким бы ни было отношение Софии к Лицам Троицы, она тождественна с Каждым из Них лишь постольку, поскольку Они устремляют Свой свет долу, на освещение твари и плоти. Ибо сама по себе она есть лишь «отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия». Поэтому символ Софии оказывается особенно тесно связан с теми символическими образами, которые являли уму византийца идею просветленной плоти, просветленного человеческого естества. Таких образов следует назвать по крайней мере три: Богородица, Церковь и священная христианская держава.
Начнем с первой [185]. Добродетели Девы Марии – совершенная чистота и то пассивное женственное послушание, которое выражается в словах: Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему (Лк. 1: 38), – суть специфически «софийные» добродетели, соответствующие ветхозаветному образу «чистого зеркала». Умозрительная мариология начинается в Византии с Ефрема Сирина († 373), прославлявшего Марию как безусловно непорочную и сияющую «несравненным изяществом» этой непорочности дочерь человеческую, в Которой род человеческий получает освящение (S. Ephraemi Siri Carmina Nisibena, ed. G. Bickell, Lipsiae, 1866, p. 122). Но особый расцвет софиологическое осмысление образа Девы Марии получает с VI–VII веков в культе и богослужебной поэзии [186]. Как уже говорилось выше, Богородица вступает в наследственные права над эпитетами языческой Софии – Афины: даже воинские, бранные функции копьеносной Паллады находят свое соответствие в почитании «Взбранной Воеводы» (ἡ ὑπέρµαχος στρατηγός). В загадочном Акафисте Богородице, о времени создания и авторстве которого до сих пор не прекращаются споры [187], это понимание Богоматери нашло свое суммированное выражение. Акафист выразительнейшим образом соединяет образ Девы Марии с софийными мотивами дома, храма, утверждающего столпа, основания, заградительной стены против хаоса: уже в икосе 10 Богородица именуется «стеною девам» (τεῖχος τῶν παρθένων), но в икосе 12 нанизываются одно за другим наименования «шатра Бога и Слова» (σκηνή, в традиционном переводе «селение»), ветхозаветной «Святая Святых» иерусалимского храма, позлащенного Ковчега Завета, «непоколебимого столпа Церкви», «нерушимой стены царства». Весьма важен этот последний эпитет: вместе с другим («честный венче царей благочестивых») он указывает на связь образа Марии с идеей священной державы и победоносной царственности, что опять-таки характерно еще для ветхозаветной Премудрости. Автор Акафиста подчеркивает космологическую роль Марии: в Ней «Творец явил обновленное творение» (νεὰν ἔδειξε κτίσιν, икос 7). Характерен самый подбор слов, художническим внушением вызывающий в уме читателя нужную идею: «Спасти желая мироздание («космос», τὸν κόσµον), Устроитель мирового целого (ὁ τῶν ὅλων κοσµήτωρ)» (начальные слова 9-го кондака). Построяя миропорядок как гармоническое единство противоположностей и сочетая горнее с дольним в нерасторжимой «аналогии» (см. выше), Богородица София именуется «сводящей воедино противоположное» (ἡ τἀναντία εἰς ταὐτὸ ἀναγοῦσα, икос 8). И даже там, где эта новая София выступает как антагонистка древней языческой Софии, «госпожи философов», по слову Климента Александрийского, само противопоставление сближает эти два образа: речь идет о знаменитом икосе 9, рисующем бессилие античной мирской мудрости перед христианской тайной, явленной в образе Девственной Матери [188].
Понятая так, Богоматерь являет собой символ идеальной Церкви, идею церковности. О связи между ветхозаветной мифологемой Премудрости и представлением о «единомысленной» человеческой общности уже было сказано выше; естественно, что и христианство связало образ Софии с идеалом церковной «кафоличности», «соборности». Если имя Софии есть как бы вещественный знак для «пропорции» между божеским и человеческим, то Церковь сама была для своих адептов осуществлением такой «пропорции». София – Мария – Церковь: это триединство говорило византийцу об одном и том же – о вознесении до Божества твари и плоти, о космическом освящении.
Выражая идею иерархической лестницы между горним и дольним, идею освящающей силы Бога, концентрическими кругами распространяющейся на мироздание, символ Софии сам как бы имеет структуру концентрических кругов. За Марией – средоточием «обновленного творения», за меньшим концентрическим кругом – Церковью следует больший круг: все христианское человечество, устроенное как священная благочестивая держава. Это момент особенно важный для ранневизантийской идеологии эпохи императора Юстиниана, ведшего борьбу за объединение всей христианской «ойкумены» в просторном «доме» вселенской империи. Здесь на наших глазах утонченнейшие умозрительные построения и конкретнейшие политические интересы поистине сливаются воедино под знаком Софии, сопрягающей горнее и дольнее [189]. Из этого ясно, почему освященный 12 декабря 537 года величайший из храмов Византии, призванный дать вещественное воплощение сокровенной идее Константинова града, был посвящен имени Софии: здесь София являет собой символ теократического принципа. Выше приходилось говорить о связи между образом ветхозаветной Премудрости и фигурой царя Соломона, мудрейшего устроителя священной державы и строителя Храма, двояким образом давшего вещественный дом для невещественной святыни; Юстиниан же был для официальной идеологии «новым Соломоном». Это «соломоновское» начало, начало государственности в византийском образе Софии хорошо выражает миниатюра из манускрипта № 6 Королевского собрания в Копенгагене [190]: справа на высоком троне, в царской одежде и венце восседает Соломон, бодрым и проницательным взором широко раскрытых глаз взирая на зрителя; у его ног на простом табурете сидит Иисус, сын Сирахов, являя собой образ скромного мудреца, несколько напоминающего античных философов; а из-за роскошной колоннады с аканфовыми капителями, замыкающей сцену сзади, подымается по грудь фигурка самой Премудрости, в богородичном мафории и со свитком в руках. Благоверное царство и благочестивая ученость – вот две равновеликие формы проявления Софии в мире людей. Собирая космические тела в устроенное мироздание, собирая разрозненные мысли людей в дисциплинированный интеллектуальный космос, Премудрость собирает и земли, города, страны в централизованную сакральную державу. Ибо государство тоже есть ее «дом».
Таковы главные смысловые грани древнего символа Премудрости Божией. Нет нужды напрягать фантазию, чтобы представить себе, каким новым блеском засверкала каждая из них для современников и единомышленников князя Ярослава и митрополита Илариона. Возьмем, например, присутствующий еще в ветхозаветном образе Премудрости и, в конце концов, в самом слове «Премудрость» момент сакрального интеллектуализма. Более старые, нежели киевская,