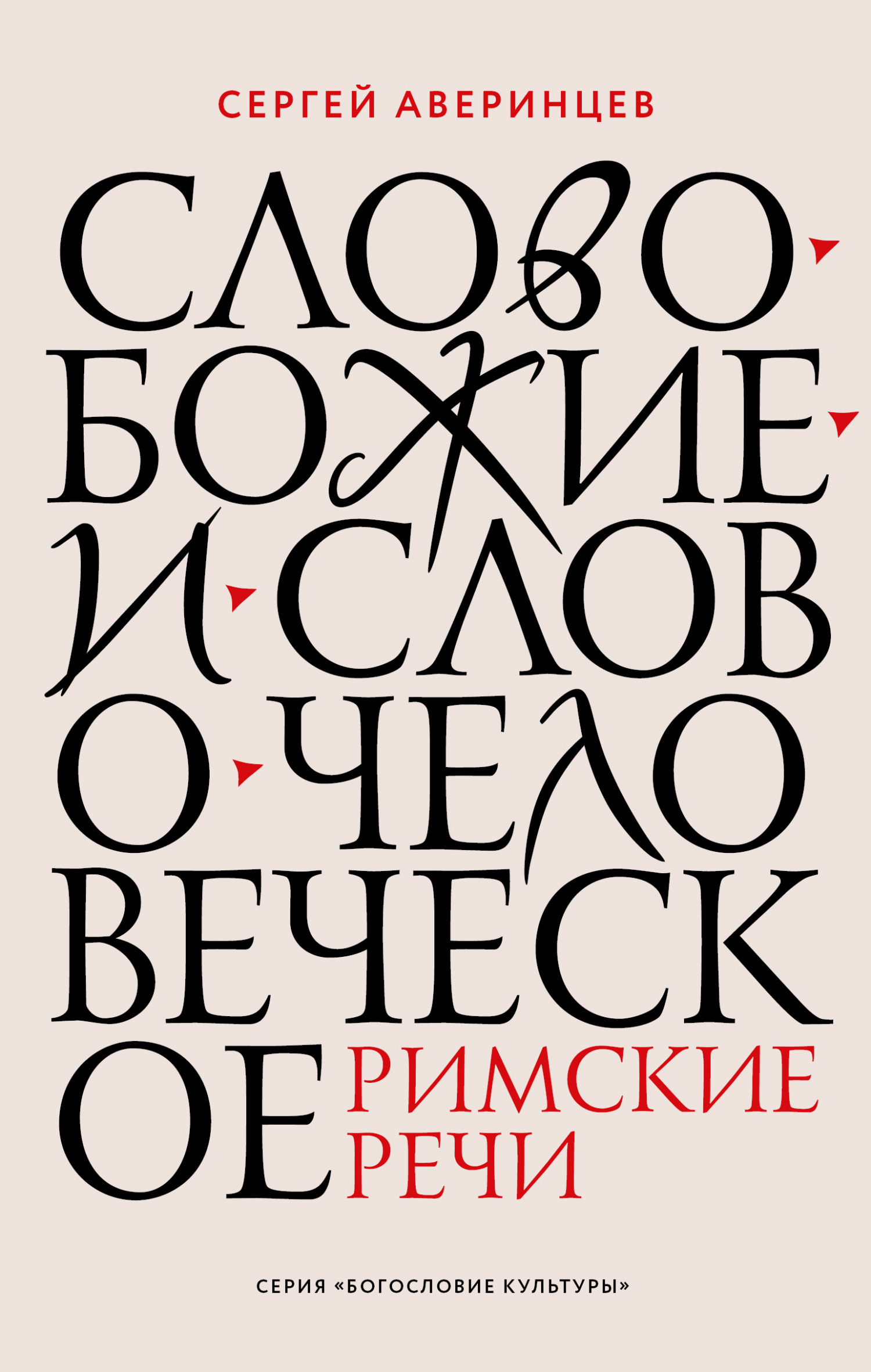(σοϕία) (1 Кор. 1: 24) [167]. Поэтому не приходится удивляться тому, что для начала христианская философия не могла освоить библейские речения о Премудрости иначе, как отнеся их все без исключения к Сыну, к Логосу. Более того, когда Иероним цитирует уже упоминавшийся нами текст иерусалимского таргума: «В премудрости сотворил Бог небо и землю», он переводит его – не только на латынь с древнееврейского, но и на язык христианской теологии с языка талмудических толкований – так: «В Сыне (in Filio) сотворил Бог небо и землю» [168]. Особенно часто прилагает ко второму Лицу Троицы имя Премудрости Ориген: «Каково имя Премудрости? Иисус… дабы и нам Сей человек уделил взаимную эту сопричастность, дабы, воспринявши ее, мы стали премудрыми, разумеющими в Боге и человеках, добродетелями украсив душу во Христе Иисусе» [169] – таких мест у многоученого александрийского теолога можно найти много [170]. Но и ортодоксальнейший Афанасий Александрийский именует Христа «единородной Премудростью» [171]. Приравнивание слова «Премудрость» к другим христологическим обозначениям типа «Слово» (λόγος), «Сила» (δύναµις), «Путь» (ὁδός), «Истина» (ἀλήθεια), «Жизнь» (ζωή) и др. проникает и в литургическую поэзию; так, Косма Иерусалимский обращается к Христу: Σοϕία, λόγος καὶ δύναµις («Премудрость, Слово и Сила») [172].
Однако христологическая интерпретация не только не исчерпывала для деятелей патристики, а позднее для ученых-византийцев сущность Софии, но и не могла иметь вполне буквального смысла. Прежде чем мы убедимся в этом на основании текстов, рассмотрим два априорных тому доказательства. Первое – догматическое: как-никак, Премудрость Ветхого Завета говорит, что Бог «сотворил» ее «началом путей Своих» (Притч. 8: 22), – и если Ориген в доникейскую эпоху и в рамках своей неортодоксальной христологии мог относить эти слова ко второму Лицу Троицы [173], то после арианских споров говорить о сотворенности Логоса было немыслимо. Коль скоро в Премудрости присутствует хотя бы тень «тварной» природы, значит, она может быть приравниваема Сыну в определенной системе отношений, но не отождествляема с Ним в собственном смысле слова. Христос «есть» Премудрость, но Премудрость еще не «есть» Логос. Второе доказательство относится не к догматическому, а к образному уровню: из древнего иудео-эллинского образа Премудрости – всезачинающего материнского лона бытия, заботливой хозяйки космического «домостроительства» – невозможно исключить его женственные черты. Безусловно, мы должны остерегаться усматривать в Софии «вечную женственность» в том модернизирующе-сентиментальном смысле, который присваивали этому символу Готфрид Арнольд или Владимир Соловьев [174]: София есть женственность как раз в такой мере, что это нисколько не может помешать ей символизировать Христа [175]. Пример поможет пояснить дело.
Византийская экзегеза усматривала образ Премудрости Божией в женщине из евангельской притчи, отыскивающей потерянную драхму (Лк. 15: 8 и сл.). В проповеди на этот текст, ложно приписанной Иоанну Златоусту, мы читаем: «…И вновь Премудрость, светоченосица Христова, возжегши свечу и утвердив ее на подсвещнике Креста, всей вселенной освещает путь ко благочестию. Свечою этою пользовалась Премудрость Божия, когда искала утраченную драхму, единую из десяти, девять же ангельских драхм сочетала воедино. Кто же эта жена, имущая десять драхм, необходимо, возлюбленные, молвить! То сама Премудрость Божия, имущая десять драхм. Каковых? Сочти: Ангелы, Архангелы, Начала, Власти, Силы, Престолы, Господства, Херувимы, Серафимы – и Адам первозданный. Эту-то драхму Адамову, диавольским коварством похищенную, и в бездну житейскую погруженную, и многообразными греховными наслаждениями засыпанную, Премудрость Божия, явившись, вновь отыскала. Как отыскала, возлюбленные? Сошла с небес, приняла глиняную лампаду плоти, засветила в ней свет Божества, утвердила на подсвещнике Креста, взыскала драхму, во двор сей и в овчарне ангельской водворила ее» [176].
Такое же толкование притчи предлагает и Роман Сладкопевец в своем пасхальном кондаке «На Воскресение Господне и на десять драхм»: «Жена есть Добродетель (ἀρετή) и Премудрость (σοϕία) Создателя, сиречь Христос, Божия Премудрость и Сила» [177]. В обоих текстах на уровне логического смысла Премудрость и Христос отождествлены (у Романа, в отличие от Псевдо-Иоанна, это сделано и на словесном уровне); на уровне образной символики самостоятельный образ трудолюбивой и заботливой хозяйки мирового целого хотя и указывает на образ Христа, но в нем не исчезает; наконец, на словесном уровне Псевдо-Иоанн именует Премудрость «светоченосицей Христовой», тем самым как бы отделяя ее от Самого Христа, и Роман, по видимости, недвусмысленно сливает их воедино, хотя очевидно, что оба автора отнюдь не выступают как представители двух различных теологических теорий, но имеют в виду одну и ту же суть. Для обоих образы Христа и Премудрости стоят между собой в отношениях одновременно и тождества, и различия.
Есть основания полагать, что неясность границ образа Софии, открытость этого образа вверх, в направлении Бога Слова, и вниз, в направлении просветленной «твари», существенным образом связана с глубинной природой самого понятия Премудрости. Ибо в мире Софии часть равна целому, чью целокупность она вбирает в себя; в мире Софии низшее подобно высшему, чей образ оно приемлет. Существует много патристических текстов, связывающих Премудрость с идеей «обо́жения» (ἀποθέωσις), освящения и возвышения до Бога человеческого естества. Еще Григорий Нисский (IV век) учил, что Премудрость сообщает человеку «нетление» (ἀϕθαρσία) [178], а его старший брат Василий Великий говорил в аналогичном контексте о «богоподобии» [179].
Максим Исповедник высказывает эту мысль с предельной четкостью: «Для единения с Богом у нас нет иного посредника, кроме Премудрости» [180]. Мир Софии – это мир «пре-подобия», уподобления низшего – высшему, плоти – духу, духа – Богу, мир той «аналогии» (ἀναλογία) между божественным образом и дольним отображением, которую Псевдо-Дионисий Ареопагит усматривал в иерархии бытия [181], а сама София есть эта связующая аналогия. Поэтому на вопрос: «Что же есть София – божественное ли начало или тварное?» – мы должны ответить: да, божественное – но постольку, поскольку оно светит дольнему миру, нисходит к нему в любовном «истощении» (κένωσις), устрояет и освящает его и, наконец, само облекается в плоть [182]; да, «тварное» – но постольку, поскольку оно приемлет горний образ, горний закон, горний свет и по лестнице подобий восходит до Бога.
Эта «открытость» образа Софии в различных направлениях побуждает нас проследить эти направления. Прежде всего следует отметить связь Софии не только со второй, но и с третьей ипостасью Троицы – со Святым Духом. Здесь важны два аспекта. Во-первых, слово «дух» в семитических языках женского рода – евр. ruaḥ и сир. ruḥā (в греческом слово πνεῦµα среднего рода) [183]: недаром он является в образе голубки, искони символизирующей на Ближнем Востоке материнское начало. Патристическая теология еще сохраняла воспоминание о том, что для иудея Дух Святой и Премудрость были очень