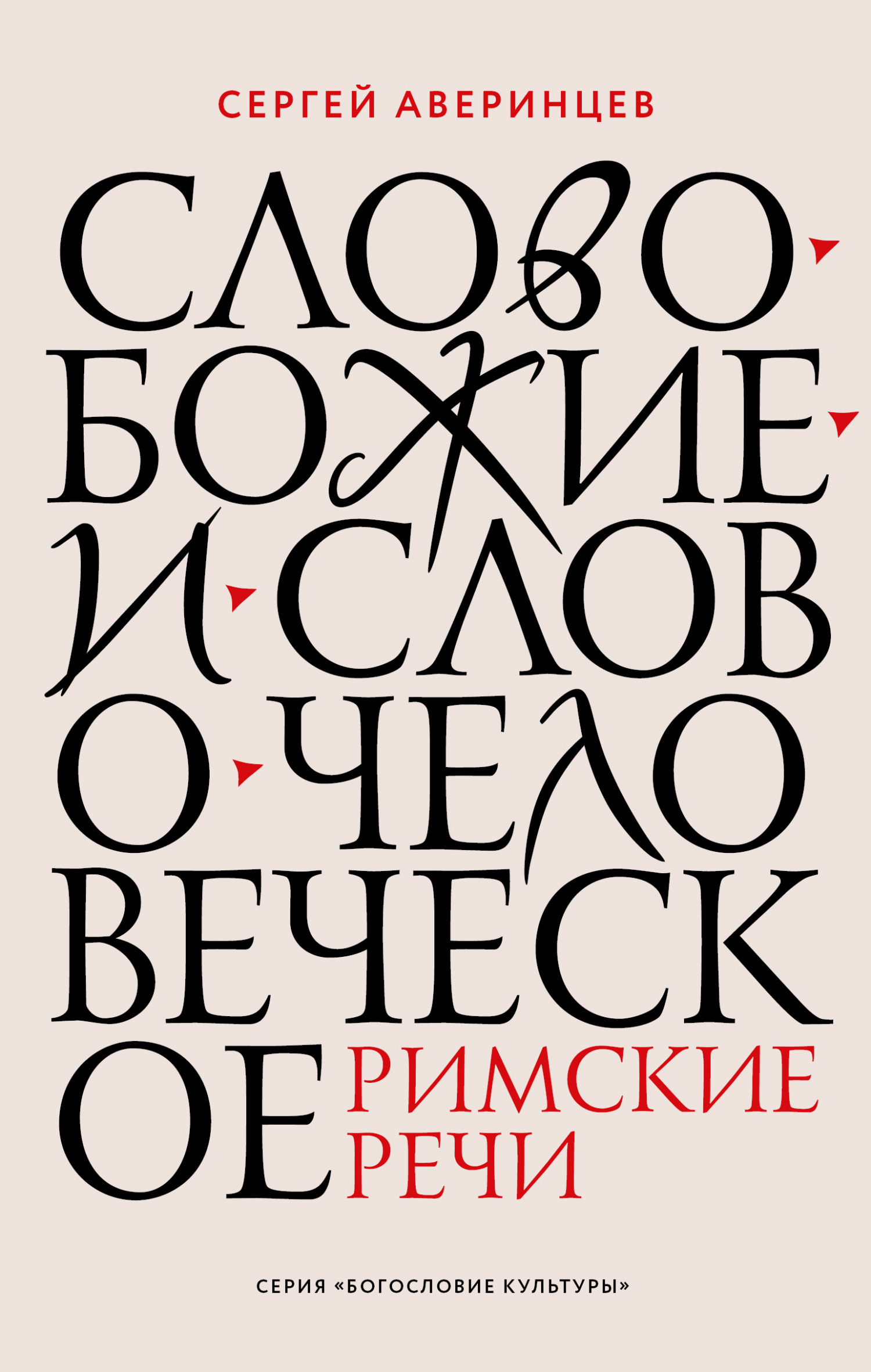этой воплощенной, олицетворенной «мудрости» можно обращаться как к живому лицу: «Смилуйся над нами и даруй нам сопричастность непорочной мудрости и исполнения духовной (νοερᾶς – „умной“ в староправославном смысле этого слова!) силы» [141]. В упорядоченном здании греческого языка и греческого мифа идея Софии и образ Афины стоят друг против друга, взаимно отражая, осмысляя и объясняя друг друга [142]. И на вопрос: что такое σοϕία? – можно ответить: это Афина, дева и матерь, дочь и помощница верховного Отца, блюстительница благозаконных человеческих городов. И на вопрос: что такое Афина? – можно ответить: это «демиургическая мудрость», устрояющая мудрость мастера, которой создаются предметы обихода и устои семьи, домы и города, общины и законы и, наконец, просторный дом мироздания [143].
* * *
И все же понятие «мудрости» в истории греческой мысли оставалось именно понятием, в самом себе лишенным личностных моментов. Мифологема Афины есть олицетворение мудрости, но мудрость не есть лицо. В особенности философская категория обладает внеличной отвлеченностью, для которой олицетворения, подобные наблюденному нами у Прокла, внутренне не столь уж обязательны.
Напротив, в сфере библейской традиции личный «ипостасный» облик «Премудрости» (ḥokmā, ḥokmot) складывается с глубокой внутренней необходимостью. Здесь имели значение две предпосылки.
Во-первых, возраставшая в историческом процессе трансцендентность библейского образа Бога, Его удаленность от сотворенного мироздания, все настоятельнее требовала некоей посредствующей сущности, которая была бы одновременно и тождественна Богу в недрах Его самобытия, и отлична от Него. Этой потребности удовлетворял ряд понятий-мифологем, выступающий в ветхозаветных текстах почти как равнозначные: ruaḥ ˀälohim или ruaḥ YHWH («дух Божий» или «дух Яхве»), šəkinā («присутствие»), meˀmrā («слово») и др. [144] К этому же ряду относился и «Закон» (torā «Тора»), который был для иудаизма некоторым аналогом того демиургического софийного «образца», о котором говорил Платон (см. выше): как сказано в Талмуде в контексте комментария на первые слова Книги Бытия, «Бог воззрил на Закон и сотворил мир» [145].
Но, во-вторых, в обстановке остро-личностного строя ветхозаветного мировоззрения [146] самораскрытие Бога в мире явлений должно было быть понято опять-таки как лицо (или «как бы лицо»), как второе и подчиненное «Я» Бога. И вот в позднебиблейской дидактической литературе (Книга Премудрости Соломона, Книга Притчей Соломоновых, Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова) мы встречаем образ «Премудрости Божией» (ḥokmat или ḥokmot ˀälohim), описанной как личное существо – или, если угодно, олицетворенное; но тогда мы обязаны констатировать, что это олицетворение осуществлено с несравнимо большей прочувствованностью, проникновенностью, интимностью, чем, скажем, у того же Прокла. В этом заключено различие – грань между античным интеллектуализмом и ветхозаветным персонализмом. Но и сходство велико. Как и эллинская Мудрость, облекшаяся в образ Афины, библейская Премудрость есть девственное порождение верховного Отца, до тождества к Нему близкая: Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя: посему ничто оскверняющее не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его (Прем. 7: 25–26) [147]. Как и σοφία, слова ḥokmā и ḥokmot – женского рода, и в пассивном образе чистого зеркала действия Божия мы угадываем женственные черты. Далее, Премудрость в своем отношении к Богу есть специально Его демиургическая, мироустрояющая воля – аспект, безусловно входящий в образ Афины-Софии, но не могший получить в греческом мировоззрении полного развития уже потому, что там отсутствовало представление о сотворении космоса во времени. «Когда Он уготовлял небеса, – говорит библейская Премудрость о своем сотворчестве с Отцом, – я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не преступали пределов его, когда полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими» (Притч. 8: 27–31). Здесь важно все: и подчеркивание мотивов меры, закона и равновесия (давал морю устав, чтобы воды не преступали пределов его), более того, некоей геометрической организации мироздания (круговая черта по лицу бездны) – что заставляет вспомнить платоновский образ «Бога, занимающегося геометрией»; и описание Премудрости как художницы, по законам божественного рукомесла строящей мир, – что снова сближает ее с Афиной; и присущее этой космогонической художнице целомудренное веселье – то, что в переводе на язык платонизма следует назвать творческим Эросом [148]; и, наконец, особое отношение Премудрости именно к роду людей, к сынам человеческим (из 9-й и 11-й глав той же Книги Премудрости Соломоновой мы узнаем, что Премудрость с самых времен грехопадения прародителей жалеет людей, спасает их и заступается за них – как Паллада за афинян в упоминавшейся выше элегии Солона). Но об отношении Премудрости к людям, а стало быть, о ее этических и социальных аспектах нам придется говорить ниже; перед этим необходимо еще одно небольшое замечание о космогонической ее природе.
Дело в том, что ḥokmā – Премудрость – в древнееврейской сакральной лексике часто сближается еще с одним термином, а именно reʔšit (в греч. передаче ἀρχή). Подлинное значение слова reʔšit современному человеку не так легко осмыслить: его словарный перевод – «начало» (то самое «начало», в котором, согласно начальному стиху Книги Бытия, Бог сотворил небо и землю), но не в смысле начальной временно́й точки отсчета, а в смысле некоего лона изначальности, бытийственного основания, принципа и первоначала [149]. Во-первых, reʔšit этимологически восходит к roʔš – «голова» – и потому означает как бы «главное»; но, во-вторых, и reʔšit, и греческое ἀρχή, как и ḥokmā, суть слова женского рода, что в контексте общечеловеческой эмблематики рождения и материнства приобретает немалое значение. Приравненность понятия reʔšit понятию ḥokmā, правда, не может быть с полной недвусмысленностью продемонстрирована на самих текстах ветхозаветного канона, но зато древняя иудаистская библейская экзегеза осуществляет эту приравненность очень наглядно. Арамейский Иерусалимский Таргум, восходящий к эпохе около начала нашей эры, заменяет начальные слова Книги Бытия «В начале (bəreʔšit) Бог сотворил небо и землю» поясняющим вариантом: «В Премудрости (bəḥokmā) сотворил Бог небо и землю» [150]. Значит, Премудрость как синоним начала есть материнское лоно изначальности, первопринцип бытия.
Но София-Хокма являет собой не только пассивно зачинающее лоно и «зеркало славы Божией» (такова ее роль по отношению к Богу): по отношению к миру это строительница, созидающая мир, как плотник или зодчий складывает дом, и действующая в мире, как благоразумная хозяйка в доме. Дом – один из главных символов библейской Премудрости. Премудрость построила себе дом – такими словами начинается знаменитая IX