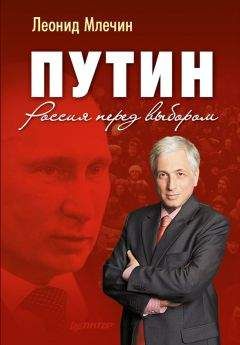на каждом шагу наблюдаем и эту хилость, и эту вялость. Вот о каком параличе власти нужно думать и говорить, синодальный же строй есть только несущественная деталь. И преодолим этот паралич не извне, а только изнутри, просветлением и углублением церковного сознания,
то есть, да-да,
то есть, в числе других сторон, и сознания власти. А до тех пор, пока на этот вопрос в одних случаях, отвечают окриком, а в других – заговариванием зубов a la Хомяков, из этого паралича не выбарахтаться. Хотите выразительный пример такого паралича власти в сознании?
Светский богослов. Жду, конечно, какого-нибудь, по вашему обыкновению, сильно наперченного парадокса.
Приходский священник (приближаясь). Слышали, господа, печальная новость из Москвы: Патриарха свалили, патриаршества уже не существует, и церковная власть захвачена какими-то узурпаторами… (общее волнение). Значит, для Русской Церкви началась опять новая эра…
Беженец (раздумчиво)…советского цезаре-папизма. Quod erat demonstrandum [57]. Ну, что же вы теперь скажете о природе церковной власти вообще и Русского Патриархата в частности? Ведь ясно, что начинается пародия на синодский строй. Нашли нового хозяина, причем им даже дела нет, что он православен даже менее, чем турецкий султан. Так ведь, знаете, и у греков есть поговорка, что лучше султанская чалма в Константинополе, нежели папская тиара, то есть независимая и твердая сверхнациональная церковная власть.
Светский богослов. Боже мой, Боже мой! Что же ждет теперь Русскую Церковь? Какой соблазн, какой развал. Насмарку пошло все великое историческое дело всероссийского Собора, все новое строительство.
Беженец. Есть и такие, которые считают его лже-Собором, как мы с вами будем, очевидно, считать лже-Собором тот, который ему последует, и, таким образом, будем упражняться в хомяковском «единстве в любви». И все-таки скажу: надлежит сему быть, как я ни подавлен происшедшим, как ни скорблю о нашем святом «Святейшем». Если мы все еще живем в хомяковских и иных иллюзиях, пусть будет чем хуже, тем лучше. Существенные вопросы надо ставить по существу, и их ставит жизнь. А сводятся они к одному: возможно ли существовать Церкви при внутреннем анархизме, благодаря которому и оказываются возможны такие coup d'Etat [58] и русская «реформация», вспомоществуемая советским цезарепапизмом.
Светский богослов. Погодите, погодите, не торопитесь с заключениями. Ведь есть еще и суд Вселенской Церкви, есть православные Патриархи, которые поднимут же свой голос.
Беженец. И вы думаете, что это произведет какое-нибудь впечатление на русскую советоиерархию? Не больше, нежели на болгар в свое время анафема Константинопольского Патриарха. Вот и происходит то распыление церковное, о котором я говорил. Теперь временно роль колпака, сдерживающего от окончательного распыления Русской Церкви на отдельные иерархии, будет играть советская власть, то есть еще сохраняющаяся прежняя синодальная палка. Плохое утешение.
Светский богослов. Подождите, подождите со своим карканьем. Такие ли времена бывали в Церкви, вспомните арианство, иконоборство… Не одолеют врата адовы…
Беженец. Повторяю еще раз: не одолеют Церкви, а Греко-российскую одолевают, и нельзя же ставить знак равенства. И можно ли сравнивать времена арианства и иконоборства, когда Церковь способна была потрясаться именно догматическими вопросами с повальным невежеством и глубоким равнодушием к вере у этих московских попов и в народе церковном. Главная же разница даже не в том, а в том, что теперь в Москве фактически даже забывают, что Русская Церковь есть часть Вселенской, греко-российство прошло, и вышло вселенское самосознание в грозный и критический час истории. А тогда ведь была пора реальной вселенскости – Вселенский собор был необходимым органом самосознания, а затем – last not least [59] – не была разорвана связь с Римом, и во все решительные моменты возвышался голос Римского Первосвященника. Нет, аналогии с тем временем для нашего не существует, наши времена беспримерны в истории и имеют свою собственную физиономию. И главная наша болезнь и наше свойство это не еретичество (до него мы не доросли, и оно нам не по чину), но церковная анархия, паралич власти. И надо сказать прямо и резко: пока мы не сознаем этой болезни и от нее не исцелимся, пока мы не перестанем быть протестантами и самочинниками, до тех пор наша Церковь не оздоровится, а если совсем не перестанем, то и погибнем как Церковь, Бог сдвинет наш светильник. И все наши церковные злополучия это не что иное, как предметный урок.
Светский богослов. Нам, разумеется, не хватает церковного воспитания, синодальная эпоха сделала свое дело, но происходящее ныне следует рассматривать прежде всего как внешнее испытание, шквал, набежавший на Русскую Церковь, гонение на веру, при котором всегда бывали и верные, и отпавшие. Нужно мужество и самообладание, готовность к мученичеству. Помните, какие были славные времена в истории Церкви, когда могли появляться такие сочинения, как Оригеново «Увещание к мученичеству». Да и чем иным, в сущности, является Иоаннов Апокалипсис и даже четвертое Евангелие в тех местах, где речь идет о предстоящих гонениях. Вот тут-то благодать, дух мученичества и надо возгревать в себе, тогда мы достойно встретим и, если судит Бог, переживем надвигающуюся церковную беду.
Беженец. То, что вы говорите, бесспорно, но представляет собой уклонение от вопроса. Мученичество всегда требуется от христиан, но этим еще не дается ответ о духовном содержании данной эпохи, об определяющих ее интересах. И сейчас в России дело идет не о чистых догматических лжеучениях, но о церковной власти или, шире, о Церкви: чувство Церкви и сознание Церкви, вот что ослаблено и затемнено теперь в русском сознании, эта болезнь действительно старая и застарелая, и развертывающиеся перед нами ее симптомы – в порядке вещей.
Светский богослов. Nil admirari! [60] Вы хорошо окопались. Однако за вами еще обещанный «выразительный пример» и, очевидно, очередной парадокс на тему о церковной власти.
Беженец. Жизнь дарит нас и выразительными примерами, и смелыми парадоксами достаточно. А я давно хотел вспомнить о знаменитой «Легенде о великом инквизиторе» Достоевского, поэтическом варианте хомяковской прозы. Он хотел дать шарж Католичества, а в действительности шаржировал всякую церковную власть или иерархию, растворив ее без остатка, вместе с Хомяковым, в «единстве в свободе и любви», – сентиментальный и молчаливый поцелуй в качестве ответа на жизненные, трагические вопросы власти и образ старца Зосимы в качестве живого воплощения Церкви (что одно и то же). Мы так привыкли любить эти пленительные образы, что не позволяем подойти к ним с трезвой мыслью и открытыми глазами. А между тем, если уж говорить правду, концепция Церкви у Достоевского, со всей ее характерной недоговоренностью, есть, правда, молчаливое, но тем не менее подлинное беспоповство, вариант церковного анархизма,