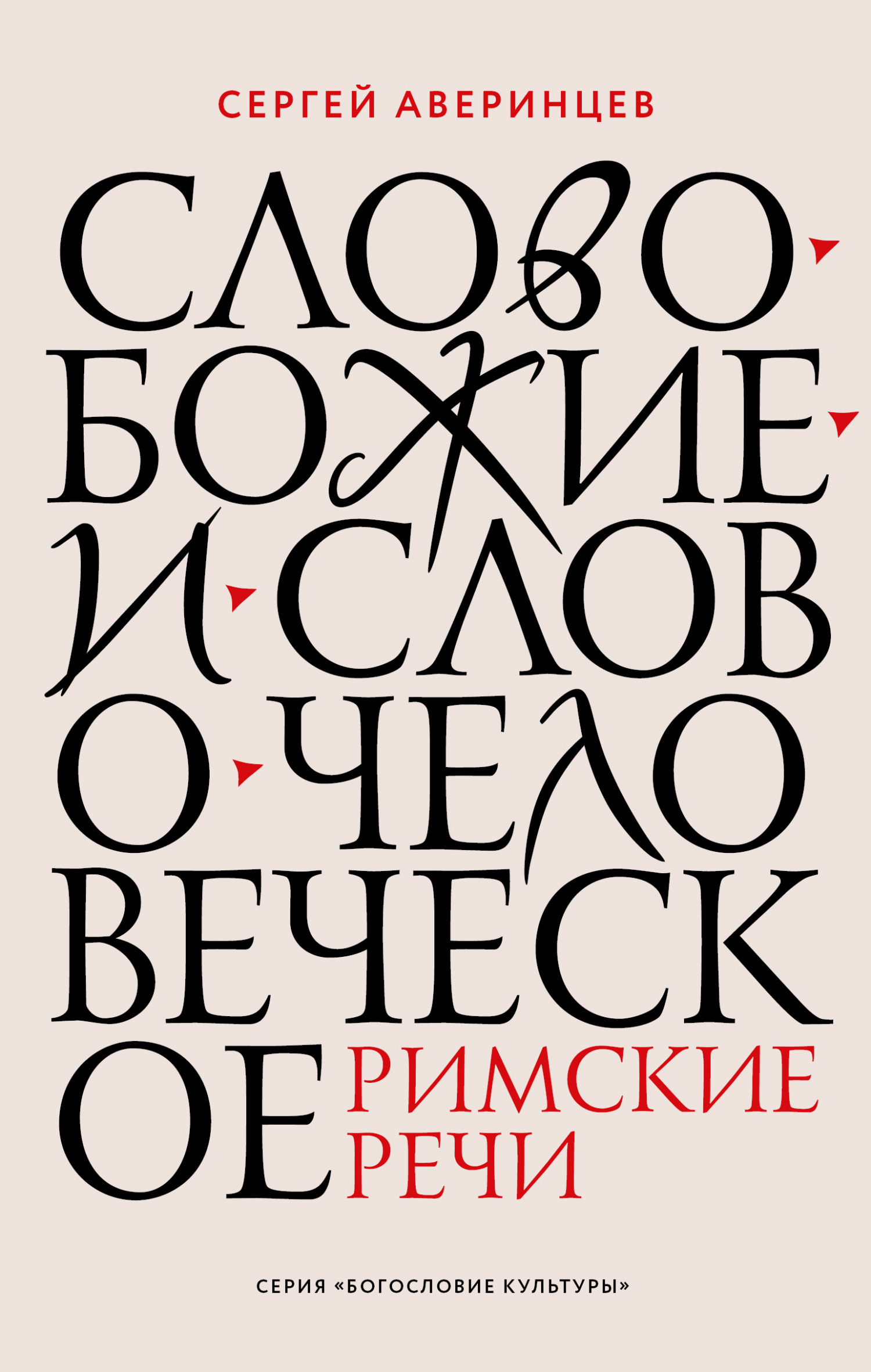все живое, – вот что соединяет
верных, fideles, поверх всех продолжающих покуда стоять конфессиональных перегородок (которые, впрочем, как сказал русский православный иерарх XIX столетия [322],
до неба не доходят). И вот что продолжает быть и в наше время, как было всегда, неприемлемым для
князя мира сего. Вот чего он не может простить. Неплохо напророчил в свое время, сто лет назад, наш Владимир Соловьев, автор «Трех разговоров»: враг готов «толерантно» принять декорацию католического институционализма, декорацию православного ритуализма, декорацию протестантского «свободного исследования», он готов терпеть и консервативное, и либеральное христианство, и христианство с прочими прилагательными, и только один вид христианства для него абсолютно неприемлем: христианское христианство. Так возникает предсказанная Соловьевым поляризация: с одной стороны, взаимопонимание под знаком
князя мира сего, направленное против
верных; с другой стороны, межконфессиональная солидарность самих этих
верных, уготовляющая пути единству.
Говоря об этом, слишком легко впасть в патетику; наше время побуждает этого остерегаться. Слишком много народы слышали идеологической лжи, да и поверхностно-добронамеренной (подчас набожной) полуправды, облеченной в патетические фразы, – чтобы не возникло общего страха перед громкой интонацией. Ведь и неприязнь сил, враждебных христианской духовности, выражает себя сегодня, по крайней мере на Западе, по внешности иначе, совсем иначе, чем это было во времена тех страдальцев всех конфессий в сталинских и гитлеровских лагерях, с упоминания которых энциклика начинается. Это как будто бы даже и не гнев, а презрительное безразличие – гонение равнодушием, как удачно выразилась Ольга Седакова. Но нам, помнящим другое, трудно увидеть в этом безразличии что-то иное, чем маску. И мы возвращаемся в наших мыслях к самому началу энциклики: «Крест! Современное антихристианство стремится умалить его ценность, поставить под сомнение его смысл». Какое там безразличие – это плохо прикрытая ненависть, которую «иоаннические» тексты Нового Завета неоднократно называют ее настоящим именем (Ин. 15: 18; ср. 1 Ин. 3: 13).
Единство «от мира сего», например политическое, тяготеет к тому, чтобы быть союзом против кого-то или чего-то. Боже избави так аргументировать в пользу христианского единства, которое должно быть единством любви, не нуждающимся ни в каком «против», ни в какой прагматической мотивации. И все же о феномене нынешней «холодной» (или, как при Гитлере и Сталине, «горячей») войны против христианства, позволяющего себе быть христианским, важно помнить при раздумьях о единстве – не потому, чтобы память эта обосновывала наше стремление к единству, а просто потому, что она отрезвляет. А чем трезвее мы видим реальность времени, тем очевиднее наш долг: «professer ensemble la vérité de la Croix».
Послесловие. Ольга Седакова
Мне довелось участвовать в презентации первого издания этого большого (двуязычного в первом издании) тома статей и лекций С. С. Аверинцева в декабре 2013 года в Риме [323]. На презентации присутствовали и выступали блестящие интеллектуалы, светские и церковные, католические и православные, итальянские и русские. Работа над составлением книги шла не менее трех лет.
Это было уже второе итальянское издание трудов нашего великого соотечественника. Первое, вышедшее в Милане, включало в себя труды С. С. Аверинцева о поэзии и поэтах (расширенный вариант его русского тома «Поэты» [324]).
Римский том сосредоточен на христианской экзегетике и на общественной мысли С. С. Аверинцева. Теперь он наконец выходит в России и может открыть русскому читателю Сергея Аверинцева или совсем еще ему незнакомого, или еще недостаточно обдуманного. Начну с совсем незнакомого. Нужно признаться, что отсутствие (точнее, редкое присутствие) С. С. Аверинцева в России в последнее десятилетие его жизни мы переживали с печалью и едва ли не с обидой. Его ясного слова, его широкого видения того, что происходит в стране, нам болезненно недоставало в эти запутанные времена. А то, чем в это время С. С. Аверинцев был занят в Европе, оставалось здесь неизвестным (за исключением того, что он преподавал в Венском университете). Как видно из этого тома (но видно только отчасти, потому что в него включены лекции и выступления в Риме, а сколько их было в других городах и весях Старого Света!), Аверинцев продолжал свое словесное служение уже в общеевропейском горизонте.
Известно, что Аверинцев называл себя «средиземноморским почвенником» [325] (точнее, кто-то из коллег назвал его так – скорее всего, в шутку, но он с удовольствием и cum grano salis [326] принял это определение). Судьба «большой родины», европейской цивилизации, занимала его самым непосредственным образом. Он вступил в европейскую современность не как гость со стороны, не как приезжий скиф, а как равноправный участник событий, отстаивающий определенную позицию. И авторитет его слова был очень высок. Он выступал в самых авторитетных собраниях, он был членом Папской академии общественных наук. Никогда еще человек из России (причем не официальный представитель какой-то государственной институции, а частное лицо) не бывал приглашен выступать перед итальянским Сенатом. Если Аверинцев в этой своей речи (о вкладе Восточной Европы в формирование новой европейской идентичности) и был «представителем» чего-то, он был представителем российской свободной мысли, российской учености, русского гуманитарного академизма в лучшем смысле этого слова. Отметим и такую деталь: Аверинцев обычно читал и говорил свои лекции по-итальянски, по-французски, по-немецки, по-английски – на языке той страны, которая его приглашала. Он видел в этом необходимый жест вежливости.
«Природный русский», как по-старинному рекомендовался Аверинцев, он вступил в общий диалог современных филологов, богословов, политиков: он хорошо знал, о чем идет речь в этом диалоге (ведь многие широко обсуждаемые у нас темы безнадежно локальны, увы).
Прежде всего, конечно, Аверинцев «объяснял Россию», открывал своим европейским слушателям русскую культуру в ее связях и сопоставлениях с западной христианской традицией; он истолковывал смысл иконного письма (русская икона покорила Европу в последние десятилетия XX века); он говорил о древней и новейшей русской словесности. Только человек, который чувствовал себя как дома во всей средиземноморской традиции, мог представить «родное» в кругу «вселенского» так, как это делал Аверинцев. Я помню его блестящий доклад в Сорбонне о Крылове и Лафонтене, который, как обычно у С. С. Аверинцева, выводил в куда более обширные области смысла, чем остроумное сравнение французской и русской техники басенного жанра. Аверинцев не был русистом и славистом, русские темы в его интерпретации всегда появлялись в перспективе классической античности, библейской экзегезы, немецкой философии.
Этот род европейской деятельности Аверинцева можно было бы назвать своего рода просветительством. Его комментариев к русскому наследству в Европе ждали и светские гуманитарии, и католические исследователи. Ряд статей и выступлений, включенных в этот том, относятся именно к этому жанру. Когда-то он так же открывал для нас в России горизонты библейской, греческой, сирийской, новой западной культуры.