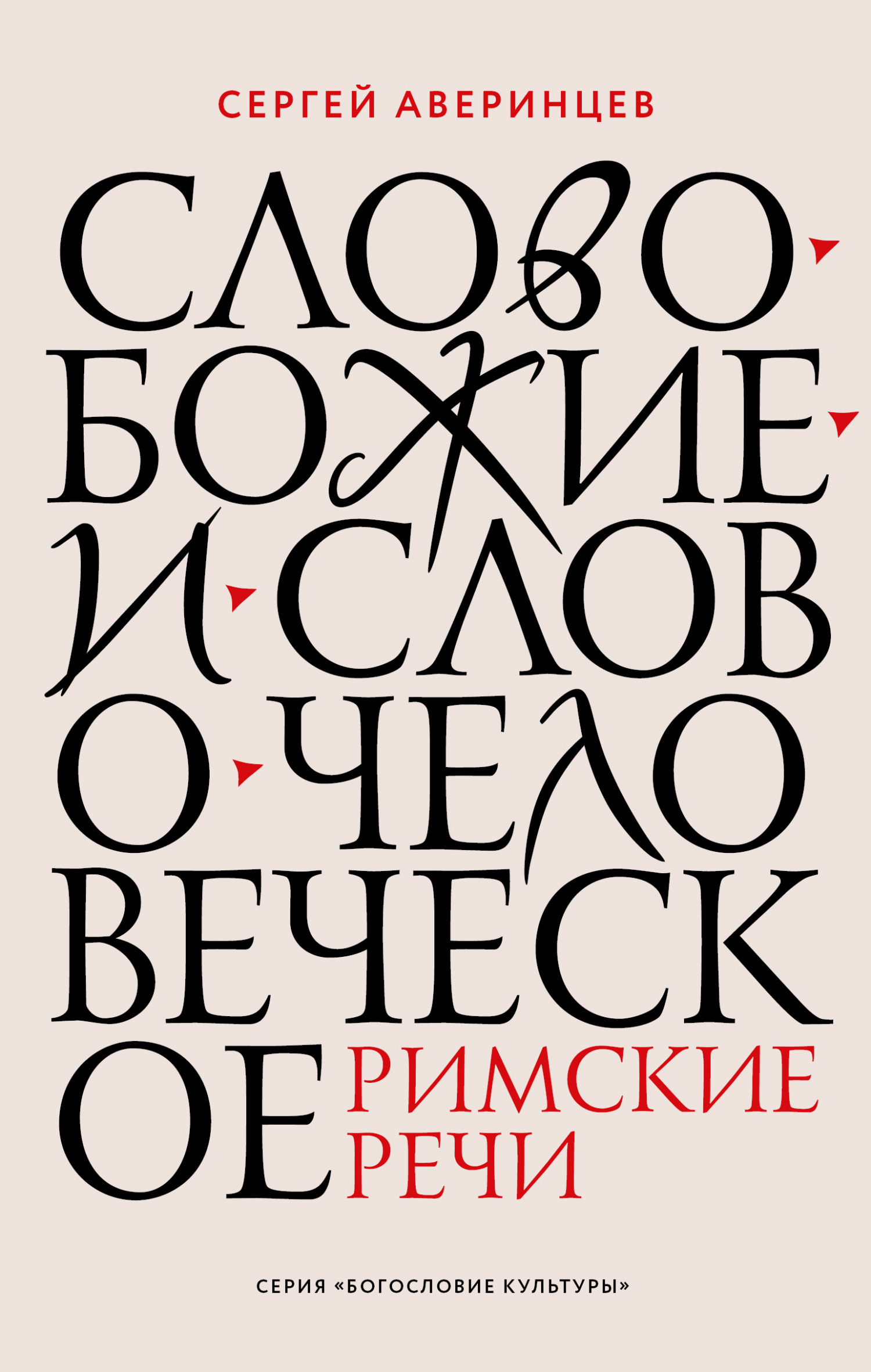служения в мире.
Идите, научите все народы (Мф. 8: 19) – но как слушать учителей, которые яростно оспаривают друг друга? Не в этом ли главный исток безверия и безразличия? Ведь если душа человеческая, как дерзнул сказать Тертуллиан и как мы знаем по опыту, по самой природе своей христианка, если Христос, и только Он, может предложить душам
труждающихся и обремененных самое желанное – несравнимый
покой, мир не от мира сего (Мф. 11: 28–29; Ин. 14: 27), можно ли до конца объяснить отход душ от христианства иными причинами, чем раздоры между христианами? Разве, примера ради, перестали бы в пору исламских завоеваний быть христианскими те земли, которые сыграли столь особую роль в истории нашей веры: Египет, родина христианского монашества, с городом Александрией, родиной христианского умозрения, Сирия великого св. Ефрема, а уж потом и Малая Азия, вместилище всех семи городов, символизирующих в Апокалипсисе полноту Церкви, – если бы не разделения, возникавшие, как нам теперь ясно, в значительной мере просто в связи с трудностями перевода греческих догматических формул на сирийский и коптский языки? А много позднее, антиклерикальный и прямо антихристианский аспект Просвещения (к которому Просвещение не сводилось, но который заявлял о себе, признаться, очень резко и не потерял своей релевантности доселе) – чем он был спровоцирован? Неужели впрямь новыми идеями в науке? Разве не очевидно, что он был несравнимо более ответом на эпоху конфессионализма, чем последствием событий интеллектуальной жизни?
Добрая воля к примирению, к единству, по слову Христа, необходимый критерий убедительности христианской проповеди. Должно, чтобы воля эта не только не оказывалась тождественной индифферентизму, но была по сути своей ему противоположна. Сомнения вызывает встречающаяся порой в прессе, да и не только в прессе, слишком прагматическая постановка вопроса, подчиняющая христианское примирение чисто политическим проектам поддержания мира во всем мире. Это правда, что христианин должен молиться о мире и трудиться для мира; правда и то, что чем полнее будет примирение между самими христианами, тем действеннее будут их молитвы и труды. Но церковное примирение не должно рассматриваться инструментально, как средство для миротворческой цели; Господь наш велел искать прежде ценностей мистических, обещав, что другие ценности приложатся к первым (Мф. 6: 33). Нам, православным, особенно свойственно страшиться, что этос социальных задач вытесняет из сознания христианского Запада приоритет духовного. В этой связи мы с особой радостью отмечаем, с чего энциклика начинается: с самого мистически основательного довода в пользу борьбы за единство – с упоминания многочисленных мученических венцов, которые стяжали в XX веке христиане разделенных Церквей. Да, они были разделены; но ненависть гонителей относилась к ним всем вместе, и они ответили на нее тоже вместе.
«Дерзновенное свидетельство немалого числа мучеников нашего столетия, в том числе и других Церквей и церковных общин, которые не состоят в полноте евхаристического общения с Католической Церковью, придает новую силу соборному призыву… Наши братья и сестры, объединенные величием своего самопожертвования, вплоть до самоотречения, во имя Царства Божиего, – лучшее доказательство того, что любой разлад внутри можно преодолеть служением Евангелию».
Чуть ниже Папа напоминает Страстную Пятницу 1994 года, когда он в Колизее, на земле, впитавшей в себя кровь древних мучеников, после размышления на темы Via Crucis [315], текст для коего, как известно, был составлен Патриархом Варфоломеем [316], в заключительной проповеди говорил о вызове, брошенном антихристианскими тенденциями века Христову Кресту, и о том, что верующие обязаны перед лицом этого вызова «professer ensemble la vérité de la Croix» [317]. Путь к единству веры проторен не кем иным, как мучениками веры.
Нужно ли говорить, что русский православный, как и вообще русский христианин, русский верующий любой конфессии, необходимо чуток к этой теме – особенно мы, люди старшего поколения, еще видевшие сталинскую эру своими глазами. Несравненный опыт: наш устрашенный взгляд встретился некогда со взглядом того, кого Евангелие от Иоанна называет князем мира сего, – взглядом неприкровенным, прямо смотревшим на нас. Говоря об этом опыте, нам, русским, нужно остерегаться сентиментальности и приукрашивающего красноречия. Очень многое было у нас разрушено, и разрушено непоправимо: ценности религиозной культуры, навыки религиозного поведения; у стольких сильных была отнята жизнь, у стольких слабых – вера или хотя бы решимость свидетельствовать о вере. Но одновременно пограничная ситуация, созданная фронтальным и всеобщим натиском на веру, в определенной мере ставила под вопрос исторические перегородки между христианами, делала эти перегородки хотя бы на мгновение не совсем реальными.
Как известно, русский православный философ Лев Карсавин, который довольно резко критиковал католицизм и никакой «рефутации» [318] своей критики никогда не предпринимал, перед кончиной в ГУЛАГе принял Св. Причастие из рук католического священника. Да, это не означало «конвертитства», перехода из одной конфессии в другую; но что это означало? В лагере был православный священник, имевший, однако, дурную репутацию предателя. Из этого следует, что выбор умирающего философа в предельной ситуации ГУЛАГа поставил различие между верностью и неверностью выше, чем различие между конфессиями. Ведь на древних языках – еврейском, греческом, латинском – «вера» и «верность» называются одним и тем же словом: ’ěmûnāh, πίστις, fides. Я далек от того, чтобы придавать самому по себе решению Карсавина абсолютную значимость, – в конце концов, и по православному, и по католическому учению вера в Церковь не должна быть поколеблена зрелищем слабости ее священника. Но ведь в той ситуации побывал Карсавин, а не мы, и он выстрадал для нас свой опыт, которого не вправе отвергнуть и тот, для кого спорен его поступок.
Случай Карсавина – известный случай. Мне вспоминается другая история из времен сталинского ГУЛАГа, которую я сам слышал в Латвии из первых рук. В ней нет ни русских, ни вообще православных участников. Один латышский католический священник – в те годы молодой, нынче давно уже состарившийся – встретил в лагере земляка, пожилого латыша-протестанта; он понял, что старику немного осталось жить, и предложил ему Св. Причастие – разумеется, не ставя условием перемену конфессии. Предложение было радостно принято. Но священника беспокоила мысль, что протестанта может смутить эпитет Церкви «catholica» в Апостольском Символе веры; вдруг он вообразит, что из него все-таки хитростью делают конвертита? И вопрос о соответственном пункте Кредо был сформулирован священником так: «Веруешь ли ты в Церковь, которую основал Господь наш Иисус Христос?» Так страшная реальность сталинского времени возвратила двух конфессионально разделенных латышских христиан к первичным экклезиологическим реальностям, к самому истоку: Ecclesia Christi. То обстоятельство, что этот католический священник (очень искренний и достойный человек, знакомство с которым для меня является незаслуженной честью) отнюдь не был склонен