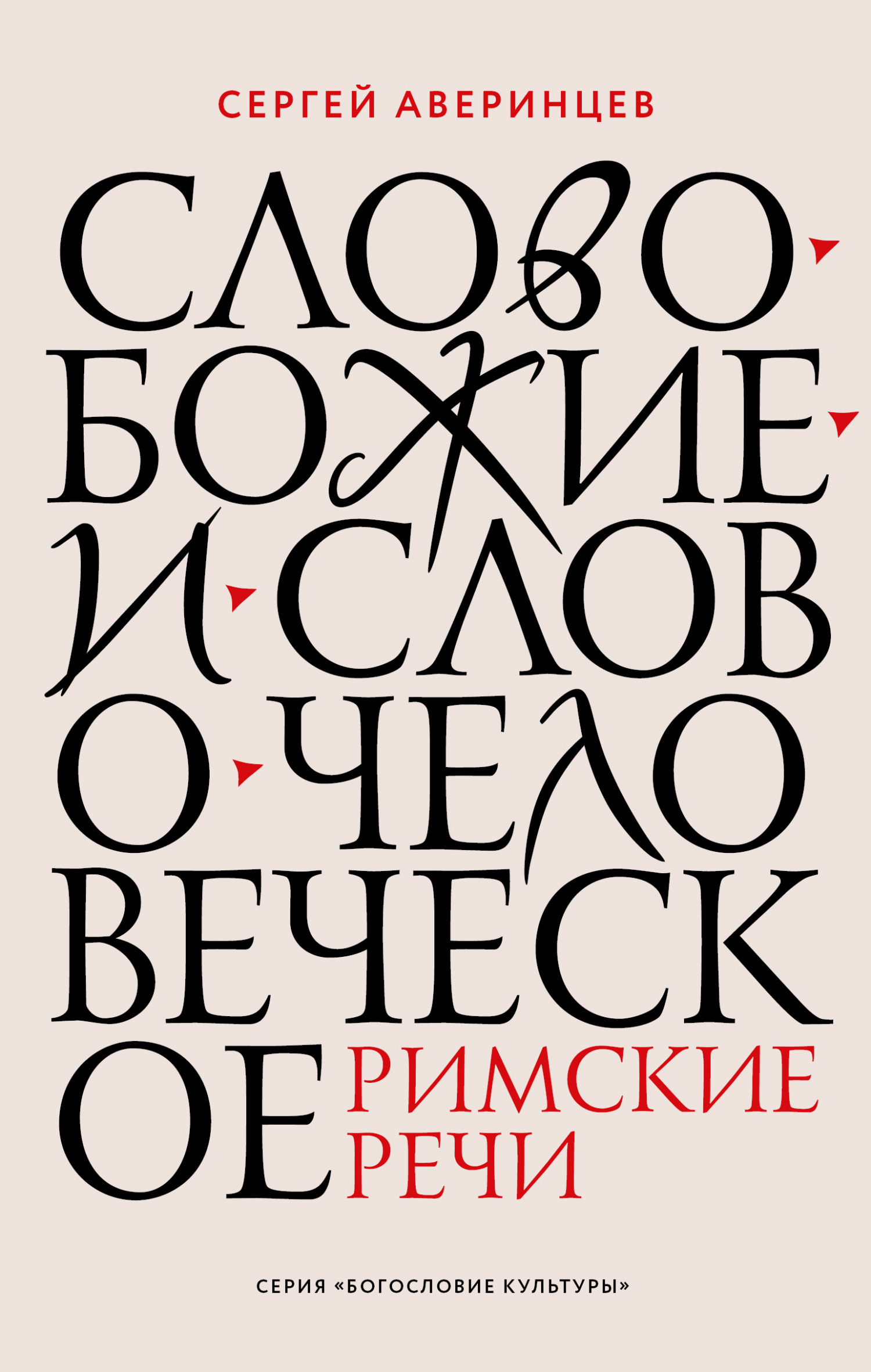class="title4">
107
Мы приводим эту поврежденную надпись в восстановленном виде, предложенном А. А. Белецким (см. В. Н. Лазарев. Мозаики Софии Киевской. М., 1960. С. 162), и соответствующей старинному свидетельству (см. Евгений (Болховитинов), митрополит Киевский и Галицкий. Описание Киево-Софийского собора… Киев, 1825. С. 44).
Объективное развитие философского анализа понятия символа (ограничимся упоминанием «Философии символических форм» Э. Кассирера) привело к тому, что вне зависимости от произвола того или иного исследователя это понятие, по крайней мере потенциально, становится предельно широким понятием гуманитарных наук. Входя в человеческий мир, вещь становится символом: она начинает нечто «означать», обретает «смысл». Язык и миф, бытовой обиход и нормы поведения, все те первоэлементы человеческого существования, без которых человек не может совершить ни одного простейшего жизненного акта, суть с самого начала символические формы.
Речь идет не о языковых, а именно о словесных формах, ибо хотя сам греческий язык на славянской почве должен был с самого начала уступить свое место в литургии и проповеди автохтонному, он оказался источником бесконечного количества так называемых словообразовательных ка́лек для передачи отсутствовавших в последнем философских и богословских понятий. Поэтому сквозь церковнославянский язык постоянно просвечивает специфически греческое ощущение слова.
В качестве примеров могут фигурировать самые различные авторы той традиции, которая породила сборники «Филокалии» («Добротолюбия»). Автор жития Симеона Нового Богослова утверждает, что прославленный мистик никогда не изучал мирской философии (Hausherr J. Un grand mystique byzantin: Vie de Syméon le Nouveau Théologien par Nicetas Stethatos. Roma, 1928. P. 17–21 (Orientalia Christiana. T. XII); это не мешает Симеону проявлять поразительную близость к учению Плотина о сущности света (ср.: Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927. С. 269–270; Минин П. Главные направления древнецерковной мистики. СПб., 1916. С. 64–65).
Нечто от этого стиля восприятия осталось у бабы из рассказа А. П. Чехова «Мужики», до слез умиляющейся над непонятным ей словом «дондеже». Впрочем, подобные явления в более сложных формах проходят через всю историю искусства и литературы. Когда мы читаем литературные произведения, насыщенные намеками на события, известные только автору (что весьма обычно для лирики), нам гораздо важнее ощущение неизвестной реальности, нежели дешифровка намеков.
Ср. католический богословский термин fides implicita (имплицированная вера), относящийся именно к таким случаям.
О противостоянии этих двух линий и их соотношении в генеалогии христианской символики см.: Hessen J. Griechische oder biblische Theologie? Probleme der Hellenisierung des Christentums. Leipzig, 1956; Dempf A. Geistesgeschichte der frühchristlichen Kultur. Wien, 1960.
Или, в сакрально-эмфатическом переводе, «премудрость». Философская концепция, доведенная до полной четкости Псевдо-Дионисием Ареопагитом (начало V века), требует прибавлять ко всем атрибутам Бога трансцендирующую приставку ὑπερ- («сверх-», в традиционной передаче «пре-»): Бог не ἀγαθός («благий»), но ὑπεραγαθός («преблагий») и т. п. Поэтому совершенно логично назвать мудрость (σοϕία) Бога «премудростью» (ὑπερσοϕία), как это и делает Псевдо-Ареопагит. При переводе на церковнославянский язык за библейским σοϕία как бы было усмотрено это ареопагитическое речение ὑπερσοϕία. Для пояснения этого случая заметим, что в церковнославянском языке речения на «пре-» употребляются еще щедрее, чем в сакральной греческой лексике. Вот один пример. В греческом подлиннике Литургии Иоанна Златоуста мариологическое заключение Великой ектении включает только один эпитет с приставкой ὑπερ- (ὑπερευλογηµένης – «преблагословенную»); в славянском тексте есть еще два эпитета с приставкой «пре-»: «Пресвятую» (παναγίας, т. е. собственно «Всесвятую») и «Пречистую» (ἄχραντος, т. е. «незапятнанную»). Последний эпитет в древних списках еще лишен эмфатической приставки и звучит как «чистую» (автор приносит благодарность за это указание А. И. Рогову).
«Речи Сигрдривы», 5; см.: «Старшая Эдда» / Пер. А. И. Корсуна. (В серии «Литературные памятники».) М. – Л., 1963. С. 110.
«Titi Livi ab urbe condita». 1. I, 19, 5 (ed. W. Weissenborn. Lipsiae, 1894. P. 21).
«Theogonia», 886–900 («Hesiodi carmina», ed. A. Rzach. Lipsiae, 1908. P. 45).
Diels H. Die Fragmente der Vorsokratiker, 4. Aufl., Bd. II. Berlin, 1922. S. 56 fragm. B2.
Лосев А. Ф. Олимпийская мифология в ее социально-историческом развитии // «Ученые записки МГПИ». Т. 72. Вып. 3. М., 1953. С. 55.
«Hymni orphici», XXXII, 8 («Orphica», rec. E. Abel. Pragae et Lipsiae, 1885. P. 75).
«Античные поэты об искусстве» / Сост. С. П. Кондратьев и Ф. А. Петровский. М., 1938. С. 41. Ср. такие эпитеты Афины, как «Детопитательница» (κουροτρόφος).
Обе цитаты даны в переводе Ф. Ф. Зелинского («Древнегреческая литература эпохи независимости», II. Пг., 1920. С. 67 и 84). Следующий текст Эсхила мы считаем нужным привести в дословной передаче: «Радуйтесь, люди градские, предавшиеся в достояние Зевсовой деве, дружественные – дружественной, разумные – мудрой: вас, пригретых крылами Паллады, почитает Отец» («Eumenides», 998–1000. – «Aeschyli tragoediae», ed. U. de Wilamowitz-Moellendorff. Berolini, 1914. P. 327). Здесь все красноречиво: и образ богини, под своими крылами матерински согревающей «людей градских», и приписанное этим последним свойство «разумности» (в смысле «благозакония», упорядоченного общежития), и связь между покровительством «Зевсовой девы» и благоволением самого «Отца».
Ср. замечание Н. П. Кондакова: «При виде этого образа мы невольно вспоминаем богиню Афину, белокурую деву Палладу, мужественный ее образ в статуе Афины Парфенос работы Фидия, мудрейшую владычицу, суровую и строгую богиню, чистую и непорочную, защитницу смертных. И высокая, стройная фигура, и длинный овал бледного лика с глубоко задумчивыми миндалевидными очами под плоскими дугами бровей, и тонкий, сухой, нередко преувеличенно длинный нос, и заостренный подбородок, и сухое, внутренне скорбное выражение малого рта, и напряженно устремленный пророческий взгляд – все сближает основу византийского образа Божией Матери с чистым аттическим типом богини Афины…» (Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Т. 2. Пг., 1915. С. 18). Когда Феодор Студит описывает, как Дева Мария, заступаясь за христиан, простирает руки к престолу Всевышнего (см. J. P. Migne. Patrologia Graeca (далее PG). Т. 99. Col. 721), мы вспоминаем деву Афину из элегии Солона, простершую руки над своим городом.
Если мы ограничимся констатацией, что некоторые черты Афины были «заимствованы» для создания византийского образа Царицы Небесной и Взбранной Воеводы, мы выскажем некоторую истину, однако ценой упрощения. В действительности столь органичные образы не создаются посредством механического комбинирования