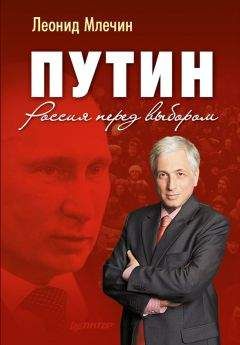другом тупике, и теперь снова стоит перед загадкой своего исторического бытия, о которой так много всегда говорилось. И уже нельзя отговориться от нее, выговорив себе особые права слепотства, вроде «умом России не обнять, в Россию можно
только верить» и подобное в том же стиле, простите резкое, но выстраданное слово – заговаривание зубов.
Светский богослов. Простите и мне тоже резкое, но тоже выстраданное слово: вы и вам подобные уже не верите в Россию, не выдержали огненного испытания, провалились на историческом экзамене. Так помните же: любовь истинная «всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит». Слышите? Всё! И кто эту любовь не явит ныне России, тот не достоин называться ее сыном.
Беженец. Что на это сказать? Бог видит сердце человеческое и судит о помышлениях его – где есть истинная любовь. Одно несомненно, что нет любви без ревности, той, о которой сказано: ревность по дому твоему снедает мя; и о народе нашем пусть нас снедает ревность жгучая, а не примиренность, не закрывание глаз на его язвы. Вспомните еврейских пророков: где была любовь к народу – у них, грозных обличителей и провозвестников грядущих бед или у их противников, старцев и князей людских?
Светский богослов. Оставим эти сравнения, которые являются только способом выдавать себе похвальные листы. Спрошу вас прямо и просто: что остается теперь от ваших прежних верований о русском народе? Дайте ответ вопрошающему об уповании своем. Вот вы раньше веровали в православную святую Русь, богоносную, в ее исключительное призвание – быть народом конца, новым Израилем, Третьим Римом, теократическим «белым царством», в котором найдут разрешение противоречия культуры и прочее подобное. Что остается от этого теперь?
Беженец. Трудный и роковой вопрос, который гложет сердце в эту бесконечную и беспросветную ночь, которая непрестанно стоит перед сознанием. Ну что же, теперь надо привыкать смотреть в лицо смертельной опасности, и на поприще ума нельзя нам отступать. Попытаюсь ответить вам искренно и честно, хотя заранее скажу: ответ мой сейчас в том, что на этот вопрос нет и не может быть прямого ответа, а только условный, двойственный, кроме той его части, в которой он может быть ясным и категорическим. Именно: я совершенно отвергаю нечестивое притязание присвоения русскому народу, как таковому, святости, богоносности и подобное. В этом я настолько прозрел, чтобы навсегда это отвергнуть: русский народ может быть свят и богоносен, как и все другие христианские, по крайней мере православно-кафолические, народы, лишь в меру своего религиозного подвига, не более и не менее, ибо у Бога нет лицеприятия. Если он будет безбожен и скотоподобен, каким он являет себя теперь, то и погибнет исторически и духовно, сгниет в грехе своем, и только, а вместе с тем погибнут и все те дальнейшие возможности и надежды, которые связывались с его христианским призванием. Потому если может быть пророчествование о судьбах его, то только условное, оставляющее всю свободу для творческого самоопределения и ответственности за свои судьбы. Стало быть, речь идет о том, станет ли русский народ христианским, каким сейчас перестает быть, но и раньше никогда по-настоящему не был, станет ли в нем христианская Церковь остовом всей жизни, каким в настоящее время – худо ли, хорошо, – но притязает стать Интернационал? Конечно, даже spiro-spero [106], хоть живое гибнет, и надежда есть такая же христианская добродетель, как вера и любовь, каждая из них рождает другую. И поскольку я люблю свою родину во всем ее целом, и в ее истории, и в настоящем, поскольку я остаюсь верен ей – а я ей не изменил! – постольку я и надеюсь, ибо уместнее говорить не о вере в народ, но о надежде на народ, что он явит себя достойным своего призвания и не погибнет. А каково это призвание? Для всех христианских народов, поскольку они не язычествуют, но суть в Церкви и Церковь, оно одно: святость и богоносность, – «род избранный, царственное священство, народ святый». И выше этого призвания не знаю я для своего народа. При этом думаю, что каждому народу дано по-своему явить эту силу святости, ибо дары различны и призвания различны, но эти призвания раскрываются с надлежащей ясностью только в огне исторических испытаний, и единственный способ их явить – подвизаться в работе Господней. Поэтому в той легкости и самоуверенности, с которой мы раньше судили о религиозных задачах и призвании России, следует видеть своего рода дилетантизм, ныне столь жестоко обличенный, или же самоослепление, в которое легко впадают люди во времена благополучия: таково было и учение о Третьем Риме в православной Москве. Однако и теперь я не могу отрицать значения этих попыток осознать и выявить свои исторические задачи и призвание, но теперь я их понимаю не в смысле данности, какого-то через Deus ex machina явившегося мессианства, но внутреннего призвания, особенного устремления, искания, тоски, служения. А уж из этого-то особенного искания рождается историческое призвание и место в истории. И я не стану отрицать и теперь, что в русском религиозном сознании, хотя и смутно, и незрело, были и есть свои особые задания, вернее какая-то особенно напряженная мысль и тревога – я бы сказал, около вопроса о теократическом идеале жизни. Сейчас звучит это дико и безумно, хотя во времена Грозного и Московского царства, когда была провозглашена идея Третьего Рима, то есть православно-теократического царства, она была нисколько не более ложна, чем теперь, когда провозглашается тоже Третий Рим наизнанку, теократия навыворот, но то же самое задание. И в жизни отдельных людей, как и в жизни народов, их смутные искания и творческие потуги направляются все-таки по пути, ведущему к раскрытию их действительных способностей или талантов, хотя, разумеется, далеко не всегда способности осуществляются в надлежащей степени или оправдывают свои ожидания, можно даже сказать, что никогда этого не бывает в полной мере, хотя полного никогда не бывает и обратного, то есть чтобы искреннее и настойчивое искание не оправдывалось и не вознаграждалось: ищите и обрящете. История русского народа, которая запечатлена идеей власти, действующей силой священного помазания и почитающей себя теократической, вместе с выявившимися в русском сознании религиозными чаяниями свидетельствует об этом теократическом призвании и задании, и здесь мне не приходится сжигать то, чему поклонялся.
Светский богослов. Благодарю, не ожидал. Развенчав всю русскую историю, как одно печальное недоразумение, вы теперь даете ей Иудино лобзание, – лучше бы уже без этого…
Беженец. Разница между прежним моим воззрением и теперешним в том, что прежде я представлял себе это теократическое свершение ближе и