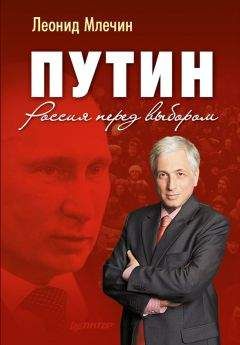соединение с христианскими народами родит новые, великие, нам теперь недоведомые, возможности, которые осуществятся после нас. Но мы имеем будущее, и мы передаем свои заветы, влагаем свои силы для этого будущего.
Будущее есть – есть для всего мира и для нашей родины, как радостна эта мысль и эта вера! Ведь, подумайте, всю свою сознательную жизнь я провел в угрюмом и подозрительном, а в сущности, пугливом отъединении от западного христианства, во внутренней «борьбе с Западом»; всю беспочвенность ее я не мог не понимать. А вместе с тем вследствие исторического испуга спасался в эсхатологию, и здесь, в сознании собственного бессилия, апеллировал к Deus ex machina, к концу мира, и так укрепился в этом, что даже потерял веру в свою смерть, чая скорого преображения наместо смерти… Ведь какая чепуха! Теперь только умудрил меня Господь ждать и просить христианской кончины живота, когда Он укажет. Но теперь, с седеющей головой, среди всеобщего хаоса и развала, во мне все поет:
есть будущее и есть оно для России. Те самые вещие сны, которые снились ей во всю ее историческую жизнь, они осуществятся, и
могут осуществляться и ею, чрез нее, если только она захочет покаяться, совершит μετάνοια [110]. Исторически жизнь и смерть России в ее руках. Она вовсе не дряхлый и состарившийся больной, которому все равно остается краткий срок жизни (каковой, в сущности, была Византия при падении), она полна сил и еще молода, и, если она погибнет теперь, это будет преждевременная и неестественная, ранняя смерть пьяницы, самоубийцы, блудника, не умевшего вовремя остановиться и покаяться, или же насильственная смерть от внутренних и внешних врагов, ее обступивших, и всяческих паразитов, развившихся в болезни. Мы должны утверждать жизнь, побороть тлетворное дыхание смерти, и прежде всего – в душах и сердцах наших. Мы должны научаться делать свою жизнь, ковать свою личность, чтобы, когда пронесется это черное облако, осталась жива душа народная, и, когда поднимется солнце, мы вышли бы на свою историческую работу.
Мы теперь твердо знаем, выстрадавши горьким опытом, как дешево стоят пустые притязания и даровая спесь, но из-за этого не должны изменять вещим думам и пророческим снам. Царствие Божие силою нудится, и только способные употреблять усилие, сильные, служат ему, и нужно искать, создавать в себе эту силу… Итак, никакого уныния, никакой измены. Да здравствует жизнь, да явится русское будущее, и в нем взыщем, по-старому, Третьего, но вместе и Первого Рима – Града Божия на земле. Ей, гряди, Господе Иисусе!
Сергей Булгаков
Письмо о. Павлу Флоренскому
17 августа– 1 сентября 1922 г. Ялта
17. VIII.1922. Ялта
JALTICA (Письмо к другу)
I
Дорогой и единственный, царственный мой друг! Тебе я пишу теперь церковную эту исповедь… Лично для меня сейчас нет ничего более важного и нужного, как то, чтобы Ты меня понял и одобрил, ибо при мысли о расхождении (я даже не решаюсь сказать о разрыве, ибо в него не верю) с Тобой ломит сердце, трепещет и изнемогает душа, и я не знаю, как я это переживу. После семьи, которая есть мое же распространенное «я», я люблю Тебя больше всех на свете, удивляюсь, чту, преклоняюсь, обожаю, как школьник учителя или, скажу точнее, как познавший всю меру слабости своей неудачник, однако не настолько слепорожденный, чтобы не узнать рядом с собой живущего гения во всей его сверхъестественности. Ты это знаешь, знаешь, что Ты для меня значишь, как я Тебе благодарен за все, за все. Ты был для меня верным другом и на брачной вечери моего священства: пред престолом Христовым Ты стоял, как сослужитель, когда я приносил Ему свои обеты, и вместе вкусили мы от Чаши Господней. И первую мою литургию совершил со мною Ты, водя меня за руку как мать, водящая свое дитя, или лучше – как орел, учащий молодого орленка летать и дышать воздухом высей небесных. И мы расстались с Тобой после совершенной вместе литургии более четырех лет назад. И земную нашу дружбу, в которой Ты снизошел до меня и которой меня осчастливил, увенчал сам Христос Спаситель на Своей вечери.
На великие испытания, искушения и просветления посылал меня Господь в эти годы, которые я прошел без Тебя, с ужасом думая о Тебе, жив ли Ты, трепеща при мысли, что я остался один без Тебя. Время это было исполнено великих чудес Божиих, и я не умею даже сказать и понять теперь, сколько было этого времени, сорок лет или четыре года: время остановилось, свивалось в точку или снова развертывалось в бесконечную ленту, но ежесуточно восходило и заходило солнце моей жизни, ежесекундно совершало свои биения сердце, давало знать, что силой Божьего создания я живу в мире, в этой стране, принадлежу Ему, а он мне. И это была для меня новая жизнь, ибо была неизведанная жизнь в священстве. О, как велико и непостижимо это таинство! Как действительно священник есть иной человек, новая тварь! На всю свою прошлую жизнь я смотрю, как, вероятно, смотрит душа покойника на сброшенное тело или бабочка на свою куколку. Я увидал свой или наш портрет, так бесконечно дорогой мне, и по воспоминаниям, и по значению, но на себя там смотрю именно так, извне, как на бывшее свое тело, которое однако уже также не мое, как отрезанный ноготь, ибо я твердо и несомненно знаю, что ведь это не-я, хотя и было я в предыдущей жизни (редкий случай, скажешь, постижения «прерывности» и напр. <?> преодоления «закона тождества»!), и, лишь напрягая память восстановляю свое единство с этим… интеллигентом.
…Я священник теперь и только священник: все остальное во мне затихло и замерло, если, впрочем, и было чему замирать. Ведь теперь-то я хорошо знаю, что все профессорство мое и научность было лишь одним недоразумением в смысле отсутствия во мне этой стихии, хотя совсем иным и казалось обратное (даже Розанову), и во всяком случае и внешне-биографически, и внутренне-духовно оно сгорает и догорает в огне священства, и я без всякого сопротивления, вольно, отдаюсь этому перерождению вот уже четыре года. Я знаю, что это «целых» вызовет улыбку у какого-нибудь заматеревшего и матерого церковника, десятками лет считающего свое священство. И пусть себе улыбается, но ведь ты-то знаешь, что время есть величина относительная, зависящая от наполнения и интенсивности. И в моей жизни, которой Бог определил кривой путь незаконной кометы, пресекающей многие