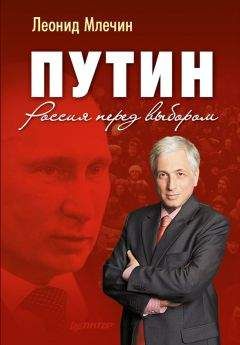чуждые орбиты, на склоне лет, после долгой уже и утомительной жизни, исполненной непрерывных перевоплощений или же хотя переодеваний, это – немало. И притом в мой опыт вошло еще теперь приходское священство, которое дало мне хотя бы одним глотком ощутить вкус вод всероссийского «грекоправославия» in concrete), т. е. прежде всего, в себе и через себя. На мою долю достались и эти печальные страшные месяцы испытания веры и любви – голодного священства в голодном Крыму в разгаре голода… И к этому непрерывная смута, церковная и мирская… Вспоминаю об этом, чтобы еще раз сказать, что на войне месяцы, а то и недели и дни идут за годы, и я, право, уже чувствую за собой опыт приходского священства. Среди нашей братии не народился еще Вересаев, который бы написал «Записки священника», с чуткой религиозной душой, а не пустые бытовые картинки, которые пишутся. Я не собираюсь быть таким Вересаевым, но твердо и ясно знаю, что без этого опыта мое церковное сознание не получило бы той конкретности, которую имеет теперь: плавать можно научиться, только бросившись в воду, да я и не своею волею взялся за эту науку.
Итак, вот Тебе итог этого отрезка моей жизни: эти годы я жил в священстве, мыслил и страдал в священстве, и хотелось бы, право, сказать это без ложного дерзновения и лицемерного смирения: и священство жило во мне, возгревая дар благодати его (character indelebilis священства, ведь это же его аксиома!). Разумеется, я и мыслил и богословствовал со всей силой страсти, которая только доступна моей хилости – и все те же старые вопросы: о ноле (приобретающие новые очертания с изменением ориентации, ведь ты подумай, для меня уже начинаются откровения старости, т. е. опять совершенно новое освещение жизни и новая ориентация), о новом сознании и, главное, о догмате о Св. Духе и о Св. Троице. Этому последнему посвящены были все мои богословские: думы, созерцания, изучение; это центр всего моего сознания. Но тем не менее это было и есть еще богословие (хотя, разумеется, не только богословие). Но область, в которой откровения мысли были вместе с тем и откровениями жизни, где я ощущал живо самую стихию, в себе и вне себя, выше себя, это церковность, все та же вековечная проблема Церкви. Ее нельзя сызнова не ставить и не проверять старых решений пред лицем крушения миров и церковных потрясений, но и помимо скандала и треска, слышного только на поверхности, в глубине, в агенте, где не слышны уже дневные шумы, выступают новые знаки, иероглифы или знамения («vexilla»), о них ночь души непрестанно ведет шепотный разговор, смотрясь в их таинственную глубину, как в многозвездное небо. И в этой тиши жила и в эту глубину смотрелась и смотрится и ныне моя иерейская душа, непрерывно ощупывая свой «столп и утверждение истины». И при этом, с полной неожиданностью, вопреки всему своему прежнему самосознанию, пристрастиям и предубеждениям, повинуясь повелительно разрывающей антиномии, какой-то железной диалектике, я пришел к сознанию, что я уже перерос прежнее понимание церковности и опять должен взять посох и отправляться снова в путь, может быть, последний уже путь своей старости. И первая и последняя человеческая и более чем человеческая – священническая мысль при этом о Тебе: неужели я отойду в этот путь один? Неужели здесь меня ждет разлука, может быть, и духовный разрыв (к чему смягчать истину? это недостойно нашей дружбы!) с Тобой. Неужели Бог потребует этой, кажется мне по человеческой слабости моей, непосильной для меня жертвы? Или же шевелится надежда этого все-таки не произойдет и так-то… даже и не представляю себе, как ты, даже не сливаясь со мной в моих мыслях и чувствах, все-таки останешься со мной, о чем молю Господа, ибо Он видит, что вольно я не согрешил против нашей дружбы, а невольные грехи слабости и неведения Он да разрешит! Всех Он нас заключил в <1 нрзб.>, чтобы всех помиловать. Итак, да смилуется Господь надо мною, и да не потеряю Тебя в этой жизни. Знаю я свою слабость. Она такова, что без проверки Тобой и по Тебе, без Твоего одобрения не могу я решиться поставить последнюю точку, сказать окончательное «да» самым, казалось бы, искренним и несомненным своим переживаниям, и Твое неодобрение поразит параличом мои слабые силы, такую власть надо мною дал Тебе Христос. Но и Он же и в этом я тоже не могу, не умею сомневаться – ныне повелевает мне идти путем своим, путем истины. Вот жизненная антиномия, она не в пример мучительнее и труднее, чем наши декоративные и благополучные антиномии школьные. Итак, прими мою смелую <? > и, конечно, неумелую исповедь и дай мне на нее ответ как соиерей, друг мой, моя надежда, <нрзб. >, и утешение! Внемли же…
II
1. IX.1922
Не рассказать этих бесчисленных и бесконечных дней и ночей, когда боролась душа и изнывала под непосильным бременем гибели России, эта непрерывная тупая боль, которая прерывалась острыми пароксизмами. Я жил (и живу) в полном одиночестве, в котором вынашиваю и вымаливаю свои теперешние думы, поставленный перед Престолом Божиим и перед (с <1 нрзб.>) своею паствою. И странным образом под наплывом этих дум и чувств все сильнее во мне обострялась одна основная боль и тоска – о церковности. Здесь, в этом пункте основном и решающем, Ты должен меня правильно понять: не о Церкви, Теле Христове, Невесте Христовой, которую я знаю, верю и люблю всем сердцем и помышлением превыше всяких сомнений, но именно о церковности, о социально мистическом (здесь в первый раз не извиняясь и не смущаясь, говорю о «социальности», ибо нащупал и ее откровение). Может быть, в глубине своего существа все сильнее я чувствовал роковую неудовлетворенность греко-российством и новый духовный голод, чувствовал все сильнее какое-то роковое одиночество и церковное сиротство… Я знаю, что Ты поймешь, о чем речь, и не станешь мне читать прописную мораль: мистическая Церковь, в которой я, все и во всем, есть, как и была для меня высшая и даже единственная реальность, и я познаю это в каждой Евхаристии, в каждом священнослужении, – речь не об этом.
И совсем не о личном фактическом одиночестве, т. е. уединении, говорю я, так как если бы я жил и на необитаемом острове, то все было бы то же. И нельзя также дружбой утолять эту жажду (я постигаю это совершенно точно), о которой умел Ты раскрыть как бы откровение, ибо дружба, и по Твоему постижению, есть клетчатое строение