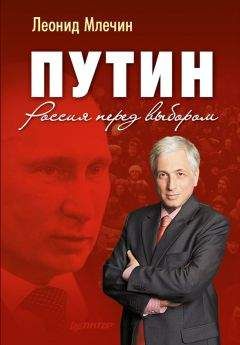повторяю, пришло ко мне помимо всяких внешних влияний и впечатлений, стало, конечно, живым центром всех моих мыслей и чувств… И это все было потому неожиданно, что я привык – это же так хорошо известно – относиться с предубеждением, подозрительностью и антипатией ко всем униональным попыткам и настроениям. Но при свете нового чувства жизни я, разумеется, стал по новому понимать и себя, и Россию, и все свои прежние дела и мысли, и наши общие с Тобою думы, и вот об этом-то я и хочу больше всего Тебе сказать.
Виноват, был один небольшой внешний толчок, который меня как бы разбудил и насильственно направил мои мысли в эту сторону: мне пришлось присоединять к православию одну католичку. Ей это было хорошо и нужно по семейным условиям, это было, в сущности, переходом к восточному обряду, дававшему возможность причащаться, так что с нею мне не было трудно. Но я спросил свою пастырскую совесть: разве могу я с новым убеждением ее «совращать» как от полуистины к полной, как от лучшего к лучшему? Да и разве могу я внушить ей все богословские тонкости о filioque и проч.? Я ответил себе: нет – и был этим потрясен. Это было еще до той октябрьской ночи. Приходилось ли Тебе присоединять?
III
Помнишь ли Ты, как перед принятием священства беседовали мы о нем и я говорил, что я стремлюсь к тайнодействию, хочу быть жрецом, а не пастором, а Ел. Ив. еще все возражала против этого. Я тогда, как и Ты, считал ее мнение недоразумением, а теперь думаю, что она была права. Православный священник есть не только жрец, но и пастырь, поскольку он – священник, он есть мистический центр власти, а следовательно, и прав, и ответственности. И говорю это не только как приходской священник (хотя в таком положении это виднее), но и просто как священник, который ведь не может не исповедывать, не проповедовать, не учить – в какой бы то ни было форме, – если только он возгревает, а не замораживает свой дар. И в этом служении священства развивается и утончается особое мистическое чувство церковной социальности, связи с единой церковью, вместе и с болезнями этого чувства. В своем «жречестве» православный священник вполне удовлетворен и сыт, ибо вкушает неземное блаженство тайнодействия и ангельскую радость священнослужения: она сторона церковности, о которой мы с Тобой всегда делили мысли и чувства, есть действительно незыблемый камень столпа и утверждения. Но в другой стороне его, которую я стану условно называть церковно-социальной, я скоро почувствовал, не все благополучно. Ибо внутреннее задание и жажда здесь – единства церковной связи и власти, внутреннее сознание вселенскости, а действительность – поместное, тусклое, приходское, двусмысленное или многосмысленное, какой-то партикуляризм и дилетантизм. Я не говорю о том, что фактически при данном состоянии русской церкви нет не только вселенского, но даже общерусского, даже общеепархиального сознания в пастырстве: есть приход, где-то благочиние, наконец, епархиальный епископат – таков рыхлый, рассыпчатый материал, из которого склеена наша екклесия, так легко и рассыпающаяся. По это печальное внешнее состояние есть только обнаружение природы нашей церковности, порожденной «греко-российством», т. е. национальным партикуляризмом вместо вселенской сверхнародности (это звучит книжно, но на самом деле у меня зажглось солнце в душе, когда я прозрел к себе и этот партикуляризм и национализм и, думаю, навсегда расстался с остатками своего религиозного славянофильства). И вот эта-то церковная оголенность и беспомощность всего яснее сказывается в наиболее интимных точках, в особенности в исповеди и учительстве. Наше священство безвольно и постольку бессильно, и это не в смысле личной слабохарактерности, а церковной своей хилости. Иные и это ухитряются ставить на плюс доброму «батюшке», в противоположность хищному и цепкому directeur de conscience патеру, но духовник, несомненно, есть d. de con., иначе он просто требоисправитель, ех opere operate, отпускающий грехи, жрец, а не пастырь. От приходской исповеди бегут в монастырь, к старцу, там не только внимательнее, но строже, серьезнее, ибо там атмосфера церковности плотнее, но качество ее то же. Чего-то нет внутри, нет костяка, нет мускулов власти, нет внутренней связи с ее первоисточником, – роковое одиночество пастыря, кое-как, как-нибудь делающего свое дело, боящегося власти, от которой, однако, нельзя освободиться. И замечательно, что и епископ, с которым могла бы быть эта внутренняя мистическая связь, тоже есть скорее начальство, чем орган власти, он не помогает священнику, как не помогают ему и рядом стоящие его собратий, такие же одинокие и взаимно отчужденные. Нет папы в сердце и не протянуты мистические нити, связующие с Властью, т. е. с Римом, и потому вся природа православного пастырства бессильная, хилая. Можно было платонически умиляться на эту кротость и смирение, пока не ясно стало, что это – слабость, на которую нельзя умиляться и с которой нельзя даже мириться. Воинствующая церковь не должна состоять из инвалидов, а этой инвалидностью объясняются все роковые черты нашей славянской слабости, распущенности, расплывчатости, рабства: каков поп, таков и приход. Ты поймешь меня с полуслова, и мне не нужно Тебе приводить бытовых или исторических подкреплений, когда дело идет, прежде всего, о самой природе священства, а следовательно, и церковности. Можно сказать да или нет этой природе, но нельзя ее наличность отрицать. И с тех пор, как я увидел и сознал ее в себе и в других, я говорю «нет», потому что нельзя говорить «да» слабости и несостоятельности. Может быть, ты скажешь: католичество все-таки хуже, – отвечу: исторически может быть, все бывало, а мистически ubi papa ibi ecclesia, душа не может быть без центра. Нынешние экспериментальные времена и здесь произвели эксперимент церковности: мы все садимся и пересаживаемся в церковные позы: от синода к собору, от собора к патриарху, от него кувырком летим Бог знает куда, и остается в существе то же щемящее чувство тоски о вселенской церкви. Чтобы Ты не подумал, что во мне говорит разочарованный интеллигент, которому все приедается, или лично Тебе известный С.Н.Б., которому на роду написано переходить от-к даже и в священстве, скажу по всей совести, что это самознание вовсе не есть разочарование. Я ведь и знаю все положительные качества русского православного священства, как не видят многие со стороны, и лично за себя блажен, что нахожусь в его рядах.
А все-таки «греко-российская» церковь в параличе, совсем не в том, о котором говорили церковные либералы вместе с Достоевским, но во внутреннем, чисто логическом: дряблость ткани вследствие слабости сердечной мышцы, разрыв с центром единства церкви, схизма… И понятно все