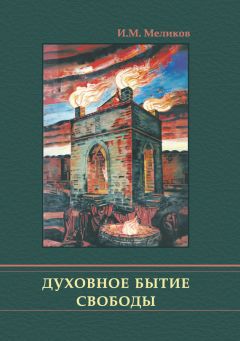другое. Смесь восторга и недоумения была очевидна в реакции молодого немца, открывшего для себя феноменологию на заре ее развития: Карла Ясперса. В 1913 году Ясперс работал научным сотрудником в Гейдельбергской клинике психиатрии, выбрав психологию вместо философии за ее практический, прикладной подход. Философия, на его взгляд, сбилась с пути, а психология благодаря своим экспериментальным методам демонстрировала конкретные результаты. Однако вскоре он понял, что психология оставалась слишком приземленной: ей не хватало великих амбиций философии. Ясперсу же не нравилось чрезмерное погружение ни в теорию, ни в практику. И тогда он открыл для себя феноменологию, предлагавшую лучшее из того и другого: прикладной метод в сочетании с высокой философской целью полного осмысления жизни и опыта. Ясперс написал Гуссерлю письмо, в котором признался, что еще не совсем разобрался в том, что такое феноменология. Гуссерль написал ему в ответ: «Вы превосходно используете метод. Продолжайте в том же духе. Вам не нужно понимать, что это такое; вопрос действительно сложный». В письме родителям Ясперс предположил, что Гуссерль и сам не знал, что такое феноменология.
Впрочем, вся эта неопределенность неспособна была остудить азарт Ясперса. Феноменология, как и всякая философия, предъявляла большие требования к тем, кто ее практикует. Она требовала «иного мышления, — писал Ясперс — мышления, которое, познавая, напоминает мне, пробуждает меня, приводит меня к самому себе, преобразует меня. Мышления, способного, кроме всего этого, приносить непосредственный результат».
Кроме амбициозных планов пересмотреть наше представление о реальности, феноменологи пообещали изменить наше представление о самих себе. Они считали, что нам не нужно пытаться выяснить, что такое человеческий разум, словно это некая субстанция. Вместо этого мы должны рассмотреть, как он работает и как человек получает свой опыт.
Эту идею Гуссерль почерпнул у своего учителя Франца Брентано, еще будучи в Вене. В одном из параграфов своей книги «Психология с эмпирической точки зрения» Брентано предложил подходить к разуму с точки зрения его «интенций» — вводящего в заблуждение слова, звучащего, будто речь об осознанных целях. На самом деле оно означает общее стремление или натяжение, от латинского корня in-tend [11], означающего тянуться к чему-то или во что-то. По мнению Брентано, это стремление к объектам и есть то, чем наш разум занят всегда. Наши мысли неизменно о чем-то или по поводу чего-то, писал он: в любви что-то любят, в ненависти что-то ненавидят, в суждениях что-то утверждают или отрицают. Даже когда я представляю себе несуществующий объект, моя мысленная структура все равно состоит из «о-чем-то» или «из-чего-то». Если мне снится, что мимо меня мчится белый кролик, на бегу проверяя свои карманные часы, то мне снится мой фантастический сон с кроликом. Если я смотрю в потолок, пытаясь понять структуру сознания, я думаю о структуре сознания. За исключением глубокого сна, мой разум всегда на что-то направлен: он обладает «интенциональностью». Взяв ростки этой идеи у Брентано, Гуссерль сделал ее ключевой для своей философии.
Попробуйте сами: если вы попытаетесь посидеть две минуты, не думая ни о чем, вы, вероятно, поймете, почему интенциональность так принципиальна в жизни человека. Ум носится кругами, как белка в поисках орехов, поочередно хватаясь за мигающий экран телефона, далекий след на стене, звон чашек, похожее на кита облако, слова друга в недавней беседе, боль в колене, важный дедлайн, смутное предчувствие хорошей погоды, тиканье часов. Некоторые восточные техники медитации направлены на то, чтобы прервать это бесконечное метание, но крайняя сложность этой задачи показывает, насколько ментальная инертность неестественна. Предоставленный самому себе, ум тянется во все стороны, пока он бодрствует, и продолжает делать это, пока мы спим.
Если рассуждать таким образом, то разум едва ли является чем-то отдельным: он есть все и сразу. Это отличает человеческий разум (и, возможно, разум некоторых животных) от всего остального, что существует в природе. Ничто больше не может быть настолько к вещам или о вещах, как разум: даже книга раскрывает содержание только своему читателю, а в остальных случаях является просто приспособлением для хранения информации. Но разум, который ничего не испытывает, ничего не воображает и ни о чем не рассуждает, вряд ли вообще можно считать разумом.
Гуссерль увидел в интенциональности способ обойти две великие неразрешенные загадки истории философии: вопрос о том, чем «на самом деле» являются объекты, и вопрос о том, чем «на самом деле» является разум. Совершив эпохé и выведя за скобки обеих тем все осмысление реальности, можно сконцентрироваться на том, что предстает взору. Можно применить свои описательные силы к бесконечному танцу интенциональности, который происходит в нашей жизни: вихрь нашего разума, захватывающего феномены один за другим и кружащего их по полу, не останавливаясь, пока играет музыка жизни.
Три простые идеи — описание, феномен, интенциональность — заняли гуссерлевских учеников во Фрайбурге на добрый десяток лет. Ведь если все человеческое существование требовало их внимания, разве могла у них когда-нибудь закончиться работа?
Гуссерлевская феноменология не имела такого огромного влияния, как впоследствии сартровский экзистенциализм — по крайней мере, напрямую, но именно ее основы позволили Сартру и другим экзистенциалистам так смело писать обо всем — от официантов в кафе до деревьев и женской груди. Читая Гуссерля в Берлине в 1933 году, Сартр сформировал собственную смелую интерпретацию, особо выделяя интенциональность и то, как она «выбрасывает» разум в мир вещей. Согласно Сартру, это дает разуму огромную свободу. Если мы есть не что иное, чем то, о чем мы думаем, то никакая предопределенная «глубинная природа» нас не определяет. Мы изменчивы. Он придал этой идее сартровский оттенок в коротком эссе «Основная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность», которое начал писать в Берлине, но опубликовал только в 1939 году.
Философы прошлого, писал он, застряли в «пищеварительной» модели сознания: они думали, что воспринимать что-то — значит втягивать это в нашу собственную субстанцию, как паук погружает насекомое в собственную слюну, начиная его переваривать. Интенциональность Гуссерля, напротив, подразумевает, что осознать что-то — значит вырваться наружу…
вырваться из влажной, пищеварительной тесноты и улететь туда, за пределы себя, к тому, что не является собой. Лететь туда, к дереву, и в то же время не к дереву, ведь оно ускользает и отталкивает меня, и я не могу потерять себя в нем больше, чем оно может раствориться во мне: вне его, вне себя… И в этом же процессе сознание очищается и становится ясным, как мощный порыв ветра. В нем больше нет ничего, кроме порыва к бегству от себя, к ускользанию за пределы себя. Если бы вы, что