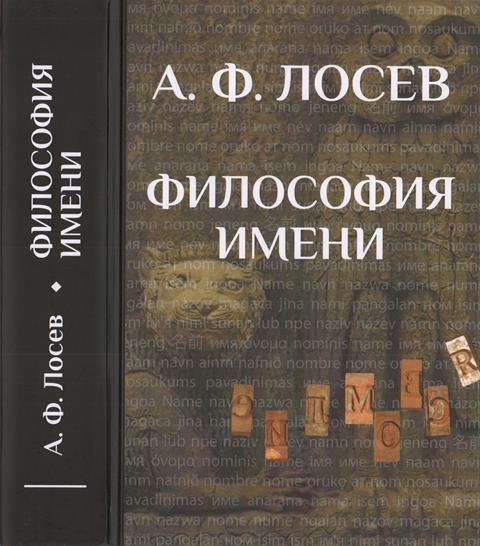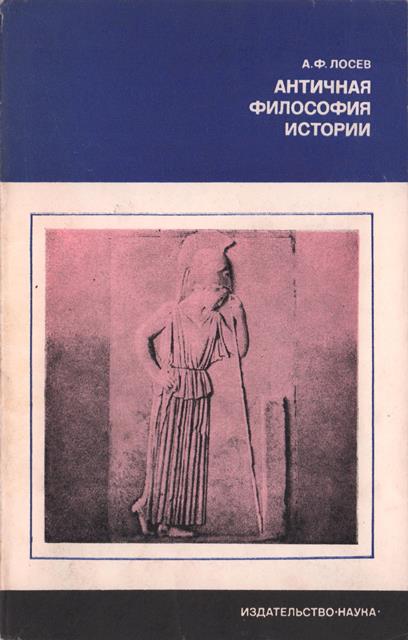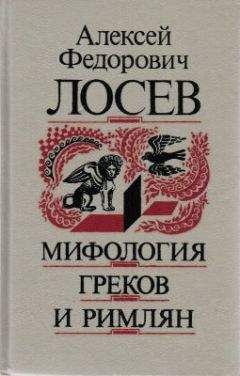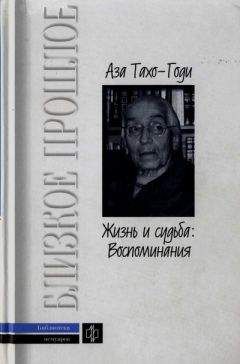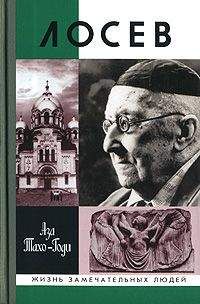понимание платонизма разделяют сегодня многие исследователи, в том числе и не ориентированные на исихазм.
4. Мы берем здесь для краткости лишь критику пантеизма в связи с соловьевской концепцией, но для Лосева проблема пантеизма имела и более широкое значение. В такого же рода пантеизме настойчиво обвинялось в то время и имяславское движение, максимально значимое для лосевской мысли.
5. Античный космос и современная наука // Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. – Μ., 1993. – С. 198. – [В дальнейшем – АКСН].
6. Симптоматично, что при достаточно многочисленных критических высказываниях о софиологии и символизме в этих версиях исихазма практически отсутствуют всякие упоминания об имяславии – как положительные, так и отрицательные. Это тоже не случайно: имяславие тесно сращено не только с софиологией и символизмом, но и с иконопочитанием. А так как исихазм вбирает в себя иконопочитание, то имяславие становится как бы пробным камнем для всех интерпретаций исихазма. Этот пробный камень пока обходится стороной, да и иконопочитание упоминается лишь мельком.
7. Лосев А.Ф. Платоновский объективный идеализм и его трагическая судьба // Философия. Мифология. Культура. – Μ., 1991. – С. 373.
О возможных трагических последствиях неверного применения платонизма говорил уже Соловьев; все это опять же было достаточно общим местом и до революции, продемонстрировавшей эти последствия на практике.
8. Философия имени // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. – Μ., 1990. – С. 21.
9. Зеньковский В.В. История русской философии. – Л., 1990. – Т. 2. Ч. 1. – С. 70.
Вообще диффузное взаимопроникновение этих двух понятий и даже игра этим обстоятельством достаточно распространены в русской философии, вплоть до появления всякого рода терминологических кентавров типа «монодуализма». Игра эта вызвана не столько стремлением к философским изыскам, сколько постоянным скольжением тех понятий, между которыми обосновываются монистические или дуалистические связи. Речь может идти и о внутрибожественной сфере, и о соотношении Бога и мира, и о соотношении разных моментов внутри человека и т.д.
10. Хоружий С.С. Диптих безмолвия. – Μ., 1991. – С. 22 и др.
11. Там же. – С. 119.
12. Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. – Μ., 1990. – С. 560.
13. Хоружий С.С. Диптих безмолвия. – С. 112.
14. Хоружий С.С. Арьергардный бой. Мысль и миф Алексея Лосева // Вопр. философии. – 1991. – № 10. – С. 119.
15. Ни о каком «четверении» Троицы, в чем многократно упрекали софиологов, здесь, следовательно, речь не идет. Лосевская пентада – это тоже триада, но уже триада как бы «второго порядка», в которой в качестве первого начала выступает триада исходная. Число «пять» есть здесь, таким образом, лишь арифметический показатель, не нарушающий принципа фундаментальной троичности.
16. Эти термины введены в самой ранней работе (см. АКСН, 180 – 198 и др.), поэтому здесь идет речь о четырех, а не о пяти началах. Полное терминологическое закрепление ономатический момент получит у Лосева позже, но и без этого закрепления и в ранних построениях уже полновесно присутствует все то, что позже Лосев зафиксирует в пятом начале.
17. Во всяком случае – в том смысле, в каком символизм является у Лосева имманентным свойством Абсолюта. Более широкое толкование проблемы творения по Лосеву в связи с символизмом будет дано в конце статьи.
18. Лосев А.Ф. Первозданная сущность // Символ. – Париж, 1992. – Июль. – № 27. – С. 256 – 257.
19. Там же. – С. 262.
20. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. – Μ., 1991. – С. 55 и др.
21. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. – Μ., 1990. – С. 431.
22. Там же. – С. 431.
23. Персонализм, таким образом, является не далекой перспективой, к которой вышел бы Лосев, если бы история не остановила движение его мысли (См. Хоружий С.С. Арьергардный бой. Мысль и миф Алексея Лосева. С. 138), но исходной установкой его позиции, отраженной уже в работах 20-х годов. Она имеет прямое отношение к лосевскому переосмыслению платонизма: неоплатоническое бытие в его понимании не только держится вещью «при себе» (это область триады), но и предъявляет его вовне, для иного (софийное и символическое начала). В этом смысле Лосев изменяет традиционное представление об особой «объективности» неоплатонических категорий, которые в противоположность новоевропейской объективности, т.е. предметности – мыслятся обычно не соотнесенными с субъектом (ср. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. Μ., 1977. С. 40). При этом, однако, надо постоянно иметь в виду, что Лосев изменяет «адрес» применения платонической символологии, перемещая ее из чувственного мира в первотетрактиду и лишая тем самым мир непосредственно земных, чувственных символов сущностной связи с Абсолютом. Поэтому, скажем, объяснение византийского или свойственного нашему веку сопряжения имперской или вообще государственной идеи с идеей христианской через обязательное указание осуществленной при этом «медиации платонически окрашенного символизма» (Аверинцев С.С. Там же. С. 119) было бы для Лосева в принципе верным, но вместе с тем и неполным. Здесь он оговорил бы частный – языческий – характер такого «платонически окрашенного символизма», ведущего к описываемому сопряжению идей, в противоположность христианскому платоническому символизму, такого сопряжения не допускающему. Соответственно, с лосевской моделью несовместима и «догадка» о связи… между политической идеологией ранневизантийской державы – и теорией символа у Псевдо-Дионисия Ареопагита… (Аверинцев С.С. Там же. С. 238).
24. Лосский В.Н. Указ. соч. – С. 74.
25. Лосев А.Ф. Первозданная сущность. – С. 256.
Л.А. Гоготишвили.
Лингвистический аспект трех версий имяславия
(Лосев, Булгаков, Флоренский)
[192]
Философская и лингвистическая обработка имяславских споров велась сторонниками и противниками этого типа мировосприятия на всем смысловом пространстве, простирающемся от Бога, платоновского мира идей, эйдоса, логоса, мифа и т.д. вплоть до конкретной индивидуализированной речи «здесь и теперь», включая «голый», бессмысленный звук. И Лосев, и Флоренский, и Булгаков «обошли» все это пространство, но каждый – по-своему, с разным членением самого пространства и, соответственно, с разным пониманием его вычлененных «островков». Принципиально единая – имяславская – установка часто заслоняет эти индивидуальные вариации темы, а между тем имеющиеся версии не только интересны сами по себе, будучи – каждая – и философски, и лингвистически перспективной, но и с точки зрения внутренней целостности имяславия. Игра вариаций и точнее ограняет общеимяславский инвариант, и яснее «приоткрывает» его внутренние резервы к смысловому расширению. Во