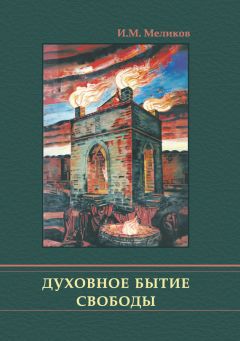объективных достижений».
«Остальные достижения меня не спасут, — ответил Мюллер, — пока эта характеристика остается в документе».
Хайдеггер возразил: «Как католик, вы должны знать, что нужно говорить правду. Таким образом, вычеркнуть предложение я не могу».
Мюллер попытался оспорить эту «теологическую» основу, но Хайдеггер был невозмутим: «Нет, я буду держаться того, о чем меня спросили. Не могу же я теперь взять свой отзыв назад, тем более что в университете уже знают о его содержании. Ничего нельзя сделать. Не держите на меня зла».
Последняя фраза поразила Мюллера больше всего. Хайдеггер, похоже, заботился только о том, чтобы оправдать собственные действия, совершенно не думая об опасности, грозящей другому человеку. К счастью, Мюллеру удалось избежать серьезных последствий в этом случае, но не благодаря Хайдеггеру. Он вспомнил свое прощальное высказывание Хайдеггеру в тот день: «Дело не в том, что я обижусь на вас, дело в том, что я существую». С тех пор его отношение к своему бывшему наставнику изменилось: он никогда не мог забыть «какую-то двусмысленность в Хайдеггере».
Слово «двусмысленность» снова и снова появляется при описании Хайдеггера, и это относится не только к его характеру или поступкам, но и к его философии. С 1945 года философы и историки пытаются понять, является ли философия Хайдеггера полностью бесполезной из-за его нацизма или ее можно оценивать в отрыве от его личных и политических недостатков. Кто-то предлагал попытаться спасти некоторые аспекты, отбросив другие, похоронив опасные части, как радиоактивные отходы, и сохранив отдельные достойные внимания фрагменты. Но это не приносит результата: философия Хайдеггера представляет собой плотное, сложное целое, в котором каждый аспект зависит от другого. Убери из «Бытия и времени» все неприятное, и структура рухнет.
Более того, почти каждая важная мысль Хайдеггера таит в себе двусмысленность. Самые опасные идеи одновременно являются и теми, которые могут предложить больше всего, — как во фрагментах про подлинность и ответственность. Больше всего озадачивают те разделы, где он пишет о Mitsein, или бытии-с-другими: он был первым, кто сделал этот опыт центральным в философской работе. Он прекрасно писал о «заботе» о других: о моментах, когда мы «вступаемся» за другого человека из чувства небезразличия или товарищества. Однако все это не позволило Хайдеггеру проявить хоть какое-то сопереживание тем, кто страдал или преследовался в нацистской Германии. Он мог писать о Mitsein и заботе, но не смог, оказавшись в непростом историческом контексте, применить свои же концепции к жизни окружающих его людей, включая тех, кто считал его близким другом.
Казалось, он даже не представлял, во что втягивает своих друзей. Многие из тех, кто знал его, особенно Гуссерль, Ясперс и Арендт, были сбиты с толку двусмысленностью Хайдеггера и уязвлены его поступками и отношением. Они не могли решиться отказаться от него, поэтому мучились над ним. Их попытки понять его дали им возможность заглянуть в пустоту. Дело не в том, что у Хайдеггера был плохой характер, писала Ханна Арендт Ясперсу в 1949 году; дело в том, что у него вообще не было характера. Сартр сказал очень похожую вещь в эссе 1944 года, говоря о нацизме Хайдеггера: «У Хайдеггера нет характера; вот в чем дело». Словно в повседневной человеческой жизни было нечто, чего не понимал великий философ повседневности.
Размышляя в хижине в Тодтнауберге, Хайдеггер продолжал писать на протяжении 1930-х годов. В 1935 году он с горечью заявил о «помрачении мира, бегстве богов, разрушении земли, сведении человека к массе, ненависти и недоверии ко всему творческому и свободному». Но и это было двусмысленно: имел ли он в виду, что нацисты за это в ответе, или что общее помрачение и расчеловечивание сделало нацизм необходимым?
Вероятно, в эти годы он и сам испытывал некоторое замешательство; ему определенно было нелегко выражать свои мысли. В июле 1935 года он написал Ясперсу, что все, что ему удавалось в последнее время в своей работе, — это «едва заметное бормотание». Но он работал над переводами, и к письму он приложил несколько строк из «Антигоны» Софокла — часть «Оды о человеке». (Позже он также напечатает этот перевод в частном порядке в качестве подарка своей жене на день рождения в 1943 году.) С нее начинается английский перевод Хайдеггера:
The manifold uncanny holds sway
And nothing uncannier than man [28].
Сама мысль Хайдеггера становилась все более и более «странной». В своем заснеженном лесу он начал долгую, медленную переориентацию, которая стала известна как «поворот» (die Kehre), несмотря на то что она не может быть привязана к какому-то одному событию. Это был процесс, ведущий Хайдеггера к более земному, более восприимчивому, более поэтическому образу мышления и уводящий от разговоров о решительности и твердости.
Однако его поэтизация и единение с лесом также привели к новым решениям. Примерно в то время, когда он раздумывал, оставаться ли на посту ректора, ему также предложили должность в университете Берлина — выбор, который, должно быть, затруднил решение по Фрайбургу. Но он отверг это предложение. Свои мотивы Хайдеггер изложил в обращении, опубликованном в одобренном нацистами издании Der Alemanne 7 марта 1934 года.
Обращение не было явно посвящено политике, хотя его последствия стали политическими. Он сказал, что не хочет переезжать в Берлин, потому что это оторвало бы его от окружения Шварцвальда — от «медленного и целеустремленного роста елей, яркого, бесхитростного великолепия цветущих лугов, журчания горного ручья в долгую осеннюю ночь, суровой простоты покрытых снегом равнин». Когда глубокой зимней ночью вокруг хижины бушует вьюга, писал он, «это идеальное время для философии». И еще:
Как молодой фермер тащит свои тяжелые сани вверх по склону и направляет их, заваленные буковыми бревнами, по опасному спуску к дому, как пастух, погруженный в раздумья, неспешно подгоняет свой скот вверх по склону, как фермер в своем сарае готовит черепицу для своей крыши — вот на что похожа моя работа.
Когда Хайдеггер впервые получил предложение, он обратился за советом к своему соседу по Тодтнаубергу, семидесятипятилетнему фермеру, известному как Иоганн Брендер. Тот задумался на мгновение — как это нередко делают умудренные опытом крестьяне. Затем он ответил, но не словами, а молчаливым покачиванием головы. Но ничего другого и не требовалось. Теперь для Хайдеггера не будет Берлина, не будет космополитичной городской жизни, не будет больше заигрывания с властью. Он возвращается в юго-западный немецкий лес, к высоким деревьям, дровам и деревенским скамейкам у тропинок, где его мышление работало лучше всего — то есть