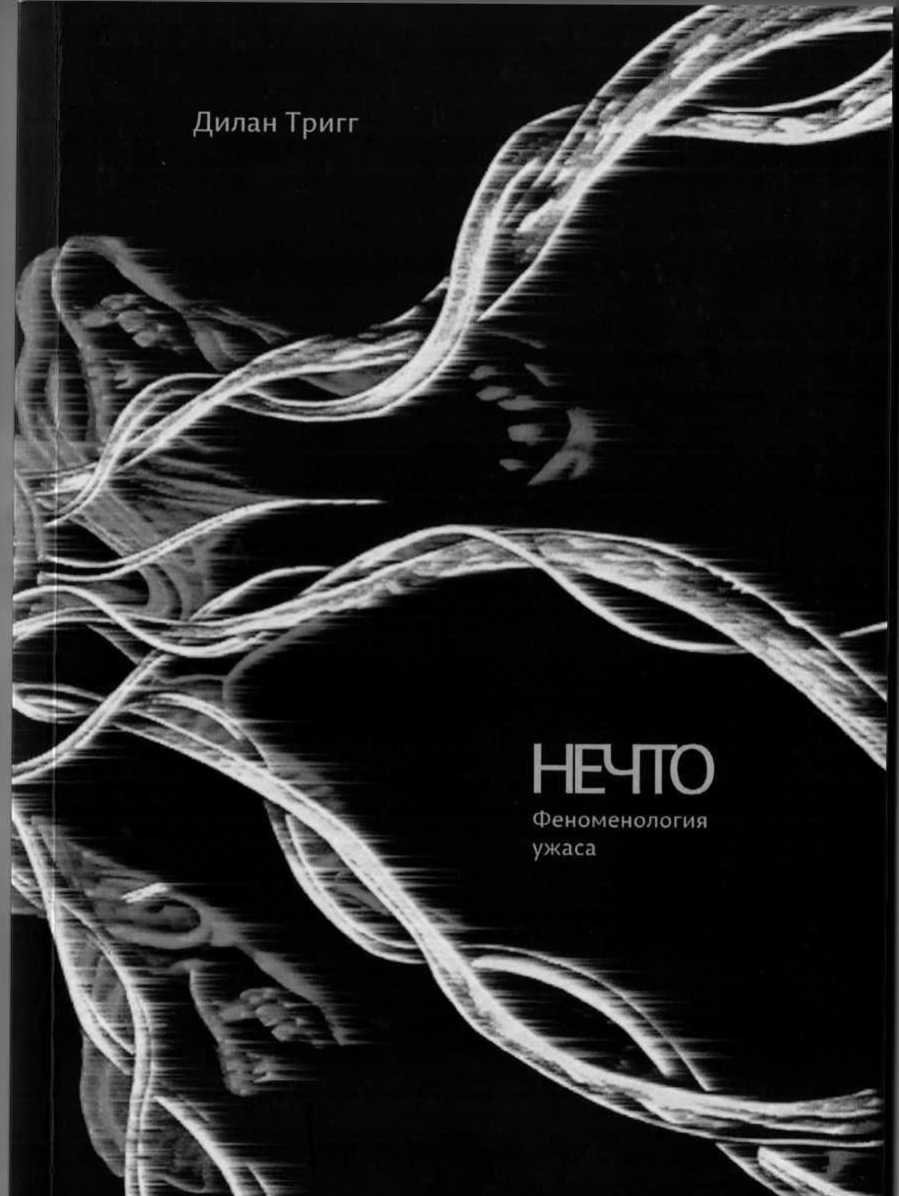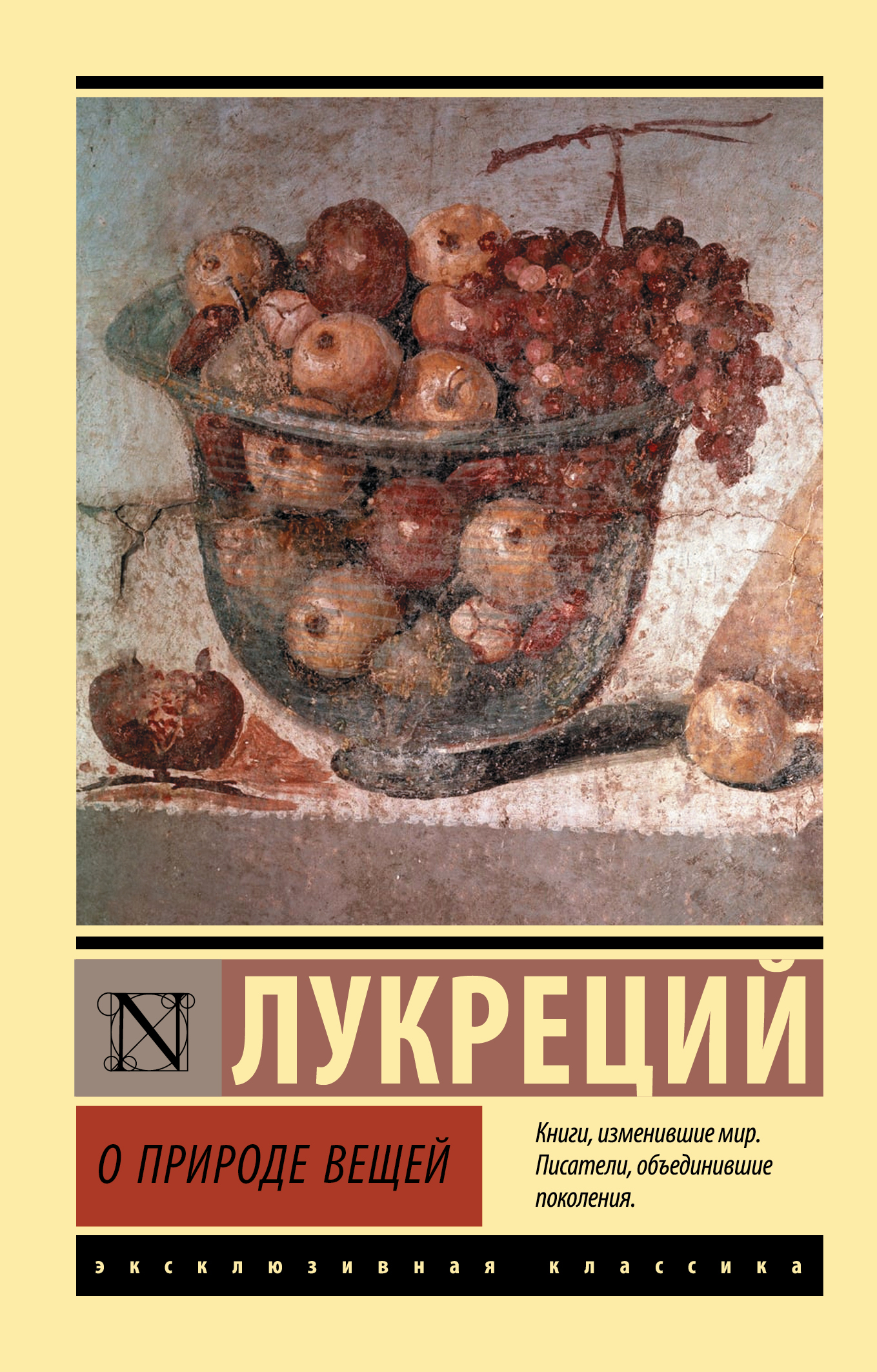безымянные ужасы или инопланетный разум, отличающийся от нашего собственного. В каждом из этих случаев нечто, чего быть не должно, выдает себя — чтобы феноменология могла его постичь — за кажимость и тем самым искажает само предшествование доисторической сферы.
Как мы видели, подобное представление о феноменологии, которая фабрикует серию феноменальных точек посреди не-феноменов, противоречит феноменологии Мерло-Понти. Для него, как и для нас, затемняющая феноменология отмечает точку пересечения, в которой концептуальный язык археологии и геологии обретает большую значимость, чем язык живого опыта. И в самом деле, вопрос об опыте теряет в рамках такой философии опору, поскольку вопрос ставится не о различении субъекта/мира, но о том, как мысль может концептуализировать дотеоретические слои, на которых строится само мышление.
Что касается тела, которое остается, то теперь археология вещи инвертирует его из места живого опыта в «след», который отмечает «пережиток прошлого, [его] пересечение [с настоящим]. След и ископаемое...» (Merleau-Ponty 2003, 276). Это превращение тела в ископаемое лишает материальность власти над настоящим и наделяет это настоящее образом «аммонита» (276). Это превращение тела в [образ] вымершей жизни — жизни, которая имеет своим истоком древние моря Земли, уничтоженные столкновением планеты с метеоритом около 145 миллионов лет назад, — означает, что появление тела — это также и исчезновение субъекта. То, чему удается пережить бездну времени, оказывается не кульминацией разума или апофеозом духа, но призрачной материальностью. Как пишет Мерло-Понти, «живая вещь больше уже не там, но почти там; у нас есть только ее негатив» (276).
В конечном счете работа феноменологии становится безмолвной, как и зона концепта без мыслящего или тела без субъективности. Если такая зона конституирует «природу», тогда это природа, фундаментально сопротивляющаяся нашей рефлексии. По этим причинам плоть вещи — это не приглашение человеческому субъекту восстановить свое отношение к миру, еще в меньшей степени — выработать благообразную этику заботы об окружающей среде перед лицом оскверненного мира. Какими бы достоинствами не обладали подобные предприятия, они никоим образом не находят основания в онтологии Мерло-Понти. Скорее, его онтология указывает на самый предел, где традиционная философия терпит неудачу, но не в мистическом молчании Витгенштейна или Шопенгауэра, а в жутком безмолвии, поименованном Шеллингом «бездной прошлого», которая фундаментальным образом безразлична по отношению к человеческой субъективности и тем не менее, выражаясь словами Мерло-Понти, «всегда присутствует в нас и во всех вещах» (38).
* * *
До субъективности, до человечества возникает иной исток, предшествующий опыту. Бесформенная плоть вещи заселяет сырой мир, перед которым философия описаний теряет ориентацию и в котором обнаруживает себя в чуждом ей окружении. Нигде это чуждое сопротивление не проявляется с большей ясностью, чем в материальности тела как органа восприятия в настоящем моменте и как предыстории, опознаваемой только как оставленный позади след. По мере того как это тело изымает себя из опыта, оно производит избыток в мире, подступаться к которому нужно теперь из-под материи или, скорее, из потусторонья материи. Безмолвие наступает, лишенное субъективности, лишенное опыта. В этой зоне безразличие плоти порождает нечто. Это нечто не имеет никакого конкретного образа, кроме процесса постоянной мутации, лишенной любой определенности, но обладающей коварной способностью адаптироваться к окружающему. Мы можем сказать только, что там есть нечто. Там есть вещь, присутствующая исключительно как зона анонимности. В этом шепоте безразличного космоса Мерло-Понти подталкивает нас к краю вещи и плоти:
Определяемая таким способом вещь — это не вещь нашего опыта, но тот ее образ, который мы получаем, проецируя ее на универсум, где опыт не мог бы ни на чем задержаться, где зритель оставил бы зрелище — иначе говоря, сталкивая ее с возможностью небытия (Merleau-Ponty 2003, 162).
И там, в бездне Вселенной без зрителя, остается нечто.
И так же момент, когда Земля вторично станет необитаемой и пустой, явится вновь моментом рождения высшего света духа, который от века был в мире, но оставался не понятым действующей для себя тьмой... и чтобы противостоять личностному и духовному злу, он являет себя также в личностном, человеческом образе.
Ф. В. Й. Шеллинг. Философские исследования о сущности человеческой свободы (Шеллинг 1989, 126)
I
Сначала тьма. Из глубин бездны, мерцающей точками звезд, появляется космический корабль. Пролетая мимо, он резко меняет курс, устремляясь к Земле, и растворяется в ее атмосфере. И вновь ничего, кроме звука медленной пульсации сердца. Этот звук, повторяющийся и зловещий, знаменует пробуждение чего-то к жизни. Теперь мы в Антарктиде зимой 1982-го года. Перед нами пустынный заснеженный пейзаж. Однообразная белизна горизонта нарушается только очертаниями уединенной научно-исследовательской «Станции-31» (U.S. Outpost 31) [28]. В лабораториях, мастерских и прочих помещениях ученые занимаются своими повседневными делами. Неожиданно на базу проникает спасающаяся от преследования норвежским вертолетом собака. Нам пока неизвестно, почему пилоты были одержимы стремлением уничтожить животное. Чтобы выяснить, что ими двигало, полярники отправляются в лагерь норвежской экспедиции. Пока ученые осматривают его, камера возвращается на погрузившуюся в тишину «Станцию-31». Нам медленно и детально показывают одно помещение за другим. Медицинский отсек, комната отдыха, коридор с приоткрытой слева дверью. Из-за угла осторожно появляется собака и медленно движется к дверному проему. Заглянув в него, она заходит внутрь комнаты, где работает один из полярников. По тени на стене мы видим, как он оборачивается к вошедшей собаке, но кто он, остается загадкой.
II
Нас поместили на поверхность Земли. От космоса, скрывающегося за горизонтом, мы защищены только тонкой атмосферой планеты. В этой колыбели мы привязываемся к материальности нашего окружения, вписывая в него весь комплекс представлений о родном мире. Но там, где есть покой, растет и беспокойство. Со временем с помощью искусственных машин мы научились покидать Землю. Сделав это, нам удалось получить новое представление о нашей планете. До того, как был обретен образ синего шара на фоне черноты небесного свода, полученный 7 декабря 1972 года экипажем «Аполлона-17», нам приходилось полагаться на свидетельство Юрия Гагарина, который утверждал, что при взгляде на Землю из космического пространства она предстает окутанной прекрасным сиянием. Тело Гагарина, покинув атмосферу Земли, приобрело особую значимость. Говоря словами Левинаса, она заключалась в том, что «было покинуто Место. В течение одного часа человек существовал вне всякого горизонта: все было небом вокруг него — вернее, все было геометрическим пространством. Человек существовал в абсолютности однородного пространства» (Левинас 2004, 523). Однако возвращение Гагарина на Землю не прошло без осложнений. Первый контакт с космосом превратил его в странного рода знаменитость. Из-за невозможности примирить